Джон Гарднер - Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы
Меня тронула их искренность, я понимал их, так мне казалось. Я много раз слышал от отца о вынужденно замкнутой, одинокой жизни морского разбойника. Они живут по своим собственным законам, эти изгои вселенной, существующие за счет остального человечества и ни у кого не спрашивающие на то дозволения, почти все они сущие аспиды, но бывают среди них прирожденные джентльмены. Они обнимали за плечи друг друга и меня, читали по памяти обрывки стихов и нежно вспоминали, как пахнет свежим сеном у берегов Монголии. Желтая комната лучилась.
Дальше — больше, странности множились. У меня перед глазами все, как говорится, пошло колесом (все действительно кружилось, сэр). Я бил кулаком об стол не хуже любого из них — мы обсуждали откормку свиней. Кто-то предложил сыграть по маленькой. «Н-не позволю!» — крикнул я; нашли дурака. Тут они все стали меня благодарить. Захоти я только, подумалось мне, я бы всю эту богом забытую шайку-лейку обратил в христианство. Потом предложили еще какое-то развлечение, какое — я не разобрал, но более или менее согласился, радостно, во весь рот улыбаясь и мы все тут же собрались вон из гостиницы (когти китоловов царапали меня по плечу), и все выкатились на темную улицу с гиканьем, и земля уходила у меня из-под ног, и я падал и каким-то чудесным образом оставался на ногах, как сонный медлительнокрылый баклан на рее судна в качку, — и я орал в ночи, как Вельзевул, в согласном хоре моих пиратов. О радость причастия!
Память о том, что было непосредственно после этого, улетучилась из моей головы как дым. Помню вверху на лестнице нелепую фигуру матери в ночной рубашке, костлявая рука с фонарем вытянута, точно испуганное крыло, рот растянут судорогой, тощие колени ходят ходуном. Я, кажется, говорю слезно что-то про свою любовь к отцу. Потом темь; а потом, много позже, было вот что: меня мутит, смутный, я стою на ветхом дебаркадере у заброшенного пакгауза «Пэнки и К°» и смотрю на прогулочную яхту под названием «Независимость». У нее небольшая кабина на палубе и оснастка по типу шлюпа. Какого она водоизмещения, непонятно, но, наверно, человек восемь может принять без труда. Сначала мне чудится, что я в южном Иллинойсе, но потом взгляд мой ускользает в полуночную даль океана, и истина, леденящая душу, как айсберг, открывается мне. Эти морские ублюдки продали мне яхту! Веселые мои пираты скрылись, беспечно покатились по белу свету, на семьдесят пять долларов обеспеченнее, чем я.
Ну, я сначала, понятно, взбеленился. Кажется, никто на свете не терпел такого подлого надругательства! Много спустя мой приятель Билли Мур убеждал меня, что я, может быть, и сам к этому руку приложил. Кто знает, сознание работает и на таких глубинах, куда не достигает рассудок. Но все это мне было невдомек в ту ночь на дебаркадере, и я бесился и колотил кулаками по доскам. «Не доверяй — не раскаешься», — говорил мой дядя-отшельник, глядя не на меня, а на свою трубку, словно квакер на общей исповеди.
Не знаю, сколько времени я так предавался младенческой ярости, знаю только, что делал это ото всей души. Я рыдал, как мальчик, глубоко чувствуя свое жестокое и полное одиночество среди моря и неба без края и божества, у стены обанкротившегося склада пиломатериалов. Единственно, чего мне не хватало в этих корчах горя, это любящего и восхищенного взора какой-нибудь сострадательной Миранды. Ее отсутствие, без сомнения, побудило меня наконец уняться, сесть, свесив ноги, упершись локтями в колени и подбородком в кулаки, и приступить к размышлениям.
Погода начинала меняться, задувал теплый юго-западный ветер, и дурнота моя стала понемногу меня отпускать. Я прочел название яхты, выведенное золотыми буквами по носу: «Независимость»! — и его иронический смысл заставил меня рассмеяться. Поначалу это был байронический смех над самим собой, горький и философский. Но пока я так смеялся, в душе моей наступила перемена. Я вдруг понял две вещи: морские волки продали мне чужое судно, стало быть, оно мое и при этом не мое, как и все мироздание, — это во-первых, а кроме того, глядя на восток в даль океана и ощущая пульс волн и ветров, я осознал, что вслед за Платоном и Плотином, вопреки всем рассудительным речам о южном Иллинойсе, я хочу туда. В текучести вод лежит высшая истина, безбрежная, бесконечная, как бог! — говорил я себе. Лучше мне погибнуть в ревущей бездонности, нежели стать… кем-то там такое. (Не помню точно, как я рассуждал.) Яхта словно старалась внушить мне некую мысль, легонько ударяя бортом в корявые бревна дебаркадера. И я сам не заметил, как перевалился через фальшборт и взялся вычерпывать воду — в кокпите чуть не до половины плескалась вода. Потом я поднял грот и кливер, как, я видел, делают другие, и под всеми парусами храбро вышел в море.
Ветер, как я говорил, свежо дул с юго-запада. Ночь была ясной и холодной, хотя и немного потеплело. Я встал на руль — дело оказалось сложнее, чем я думал, но я скоро разобрался что к чему. Мы летели, как чайка, разрезая гребни волн. Мачта, паруса и снасти, нос с бушпритом, вскидывающийся, точно голова лошади в галопе, чернели в лунном сиянии, как образы сна. Я плыл вперед в каком-то упоении и ликовал, будто родился бессмертным и гибель мне не грозила. Но волны вздымались и ударяли в корму, и я опустил взгляд и вдруг увидел собственную руку на румпеле — она была бледнее мрамора, — и тогда я разом протрезвел, и радость моя покатилась в сторону страха. Что-то было не так. Ветер крепчал, и я быстро удалялся от берега. Вокруг меня кружили птицы, визгливые податели безумных советов. Я попытался переложить руль на борт и обеими руками ухватился за румпель. Но ничего не произошло. Словно кашалот сжимал перо руля в своей кривой пасти. Я замер от ужаса, и сразу же вокруг меня оказался не мистический океан, и сам я — не бессмертный летучий дух, а настоящее море, и я настоящий, как и ледяные брызги, и яростная качка, и оглушительный ветер, и отчаянный, со скрипом, крен и рыск моей яхты. Теряя сознание, я полетел куда-то вниз — и очнулся, задыхаясь и отплевываясь, в трюмной воде. Надо было взять себя в руки. Я закричал: «Помогите!» — но некому было услышать мой призыв. Я набрал воздуху в грудь и снова вылез к румпелю. Страх наделил меня чудесной силой. Но и чудесная сила, я знал, была здесь бессильна. Свежий южный ветер и могучий отлив гнали меня прямо навстречу погибели. Я оглянулся через плечо — на западе поднималась сплошная стена мрака в белых прочерках мятущихся чаек. Собирался шторм. У меня не было компаса, не было провизии, а берег уже вот-вот потеряется из виду. Мысли мои проносились, как встречные волны, но, головокружительно быстрые, они не вели никуда. Зарываясь носом в пену, яхта неслась по ветру со страшной скоростью, ни на гроте, ни на кливере не был взят ни один риф. Почему она не выходила из ветра, ума не приложу — мои руки на румпеле были беспомощнее двух воробьев на заборе. Но суденышко шло ровно, и постепенно, сквозь страх, мысли мои стали успокаиваться. А ветер крепчал. Ныряя носом в волну и тут же взлетая на гребень следующей, мы проливали через борт потоки соленой влаги. Руки, лицо, ноги у меня закоченели до полного бесчувствия. Тем не менее я бросил румпель и, кое-как добравшись до мачты, спустил грот по ветру — перелетев через нос, он сразу отяжелел от воды и обломал мачту у самого основания. Это на какое-то время спасло меня. Я поплыл дальше под одним кливером, по-прежнему принимая с носа потоки воды, однако же держась на поверхности. Сердце мое колотилось все так же отчаянно, но теперь не от ужаса, а по другой причине: я поверил, что у меня есть надежда на спасение.
Вот во что я поверил, самонадеянный сын Адама, как сказал бы преподобный Дункель. Ибо в следующее же мгновение надо мной раздался ужасный, пронзительный вопль, подобный визгу тысячи демонов. С ответным воплем я запрокинул голову и успел заметить, как сверху, прямо на меня, летит огромное черное чудовище, равнодушное, апокалиптическое, словно падающая планета. Волосы мои поднялись дыбом, кровь застыла в жилах, и я снова свалился без памяти в затопленный кокпит.
VАнгел сомкнул концы пальцев перед грудью. Гость совершенно сбит с толку.
— Ха! Метафизика, черт побери, скажете вы. Ха-ха! Мореход ловит своего гостя за дрожащее ухо, и помогай им обоим бог. Ну что может ответить вам на то мореход? Да ничего! Как всегда, абсолютно ничего! Хитрая история! Ишь какие фантазии.
Но я смело отвечу вам: вздор. В этих дутых балладах больше смысла, чем вы уловили, сэр. Мне написано на роду быть повешенным, равно как и вам, но в моем случае ужасный час уже назначен (если, понятно, не случится ничего непредвиденного). И я не стану об этом думать (а сам думаю, в ужасе дергая себя за бороду: язык наружу, глаза выкачены, качаюсь на ветру. Лучше на ветру, чем труп, пляшущий под собственную музыку! И…).
Эти залы полны призраков. Вот, заметьте. Они неслышными шагами выходят из моей двери, влача за собой беззвучные цепи. Видите их разинутые, как у рыб на песке, рты и полночные провалы глазниц, которые смотрят в никуда и ничего не выражают? Я населяю тьму подводной зеленью — обращаю ее в серость, развешиваю паутину. Они приближаются, трепеща, словно жаждут высказаться, но спохватываются, что им нечего мне сказать; ни опасений, ни предчувствий. Лишенные смысла, они просто пребывают нигде, обезвеществленные до призрачности. Тысячи тысяч поколении повешенных. Подумайте только, Инспектор! Я напрягаю ум, чтобы постичь их, их — мое безнадежное будущее. Меж нами — ничего общего. Все вперед и вперед неслышно шагают мертвые, глядя пустыми глазницами. Они существуют во мне, а не в «давнем прошлом», ибо прошлого нет, во всей этой вселенной нет ничего, лишь острие бритвы между памятью и воображением, мгновенное узнавание между мертвыми существами, навечно расчлененными… или еще ожидающими рождения. Мое собственное существование миг назад навсегда исторгнуто из жизни. Секунда за секундой мир падает и захлопывается, как крышка гроба. Неужто ничего не остается — только порядок, завещанный призраками призракам, — каменные оковы мертвых идей, стальная решетка на мошонке Нового Агнца? Вот вам и весь источник силы. Вот вам и человек действия.
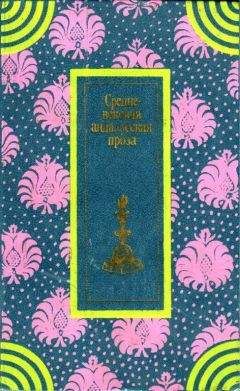
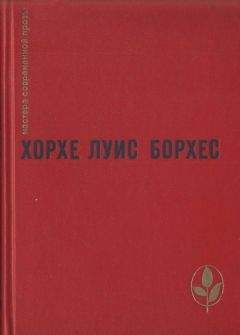
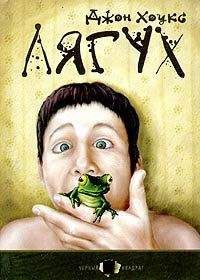
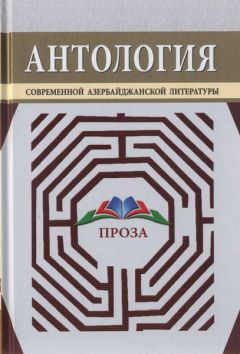
![Джон Уиндем - Паутина [ Авт. сборник]](/uploads/posts/books/60251/60251.jpg)