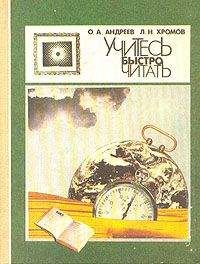Джанет Фитч - Белый олеандр
Держась за руки, мы с Клер прошли по всей выставке, показывая друг другу запомнившиеся детали — абстрактных всадников, башни-тюрбаны, разные линии и углы, изменения цвета там, где фигуры пересекались друг с другом. Теперь почти во всем чувствовалась гармония и порядок, ощущение цельности не проходило. Перед этим нельзя было не преклоняться.
Я достала блокнот и попыталась зарисовать основные фигуры: острые углы, дуги, похожие на движение часовой стрелки. Это было невозможно. Нужен был цвет, нужны были кисти и краски. Даже не знаю, что еще было нужно.
— Представляешь, какую работу надо было проделать, чтобы собрать это все в одном месте, — сказала Клер. — Годами приходилось убеждать владельцев картин сдать их в аренду.
Вот он, гений Кандинского, когда-то разбросанный частями по всему миру, а теперь собранный здесь. У каждого из владельцев был лишь кусочек мозаики, цельную картину можно было составить только на такой выставке, собрав в стопку детали, посмотрев на свет и увидев, как они сочетаются друг с другом. Это дало мне надежду словно когда-нибудь и моя жизнь приобретет смысл, если я сумею собрать все детали и одновременно взглянуть на них.
Весь остаток лета мы дважды в неделю приходили сюда. Клер купила мне масляную пастель, чтобы я могла работать с цветом, не вызывая подозрений у охранников. В одном зале, перед одной картиной мы могли провести целый день. Раньше я никогда так не делала. Одна композиция 1913 года предсказывала Первую мировую войну.
— Он все чувствовал, — говорила Клер, — чувствовал, как она надвигается.
Невероятная чернота, пушки, тяжелая, темная жестокость — конечно, еще бы он не изобрел абстрактную живопись.
Возвращение в Россию. Расцвет авангарда, но и мрачные предчувствия, что конец его недалек, как бы пышно ни было процветание. Работа в Баухаусе[47], двадцатые годы. Прямые линии, геометрические фигуры. В такие времена никому не хотелось бы попасть. Картина помогала постичь внутреннюю структуру. Я прекрасно понимала Кандинского. Наконец переезд в Париж. Розовый, голубой, бледно-лиловый. Опять естественные формы, впервые за много лет. Каким облегчением был для него Париж — совсем другие краски, вернувшаяся мягкость.
Интересно, как бы я изобразила наше время? Блестящие обтекаемые формы машин, израненные тела, синяя джинсовая ткань, зигзаг собачьих зубов, осколки разбитого зеркала, огонь, оранжевые луны и гранатовые сердца.
Осенью я записалась на пересдачу годовых оценок за прошлые годы. Клер убедила меня, что стоит попробовать. Конечно, ты все пересдашь и исправишь плохие оценки. Конечно, надо носить украшения. Конечно, мы запишем тебя в художественную студию при музее. Конечно.
Студия — большой пустой зал в подвальном помещении музея, мы сидели там и ждали преподавателя, мисс Трисию Дэй. У меня потели ладони, сжимающие купленную Клер папку для рисунков. Она хотела записать меня в класс живописи для взрослых. Для подростков были курсы фотографии, росписи на ткани, видеосъемки, но живописи не было.
— Поговорим с преподавателем, — решила Клер.
Вошла женщина. Немолодая, маленького роста, с коротко стриженными седыми волосами. На ней были брюки цвета хаки и очки в черной роговой оправе. Посмотрела на нас с усталым неодобрением — мамаша-наседка со своим избалованным ребенком, требуют каких-то исключений из правил. Мне даже стоять здесь было неловко, но Клер, к моему удивлению, была настроена самым решительным образом. Мисс Дэй быстро просмотрела мою палку, бросив несколько резких взглядов на каждый лист. Реалистические рисунки. Клер на кушетке, пуансеттии и лос-анджелесский Кандинский.
— Где вы учились?
— Нигде.
Мисс Дэй пролистала последние рисунки и протянула папку Клер.
— Хорошо. Попробуем.
Каждый четверг Клер отвозила меня в музей, потом возвращалась домой и через три часа ехала обратно, чтобы забрать меня. Ее постоянная готовность что-то сделать для меня вызывала угрызения совести, словно я использовала Клер. В такие минуты в ушах у меня звучал голос матери: «Не говори глупости. Она сама хочет, чтобы ее использовали». Но я не хотела быть такой, как мать, я хотела быть как Клер. Кто кроме Клер был бы так уверен, что я попаду в класс живописи, кто стал бы тратить на меня каждый четверг?
В студии я научилась выбирать основу для картины, натягивать холст, грунтовать его. Мисс Дэй заставляла нас экспериментировать с красками и мазками. Мазок кисти был показателем движения руки, отображением твоей сущности, ее качества, точности, нажима, уверенности в своих силах. Мы рисовали натюрморты. Книги, цветы. Некоторые дамы рисовали только маленькие цветочки, мисс Дэй велела им рисовать крупнее, но они не решались. Я рисовала большие, как пицца, цветы, увеличенные ягоды клубники — зеленые треугольнички семян, разбросанные по красному полю. Мисс Дэй отличалась спартанской скупостью на похвалу и грубоватой резкостью в критике. На каждом занятии кто-нибудь плакал. Матери понравился бы такой преподаватель. Мне тоже нравилась мисс Дэй.
Теперь я тщательно следила за тем, что пишу матери. Привет, как дела, как творчество. Писала о своих оценках, о работе в саду, о студии живописи, о запахе гари и выжженной Санта-Ана земле на холмах, о пронзительной ноябрьской синеве, о том, как укорачиваются дни. Как я получаю хорошие оценки, как меня все хвалят. Еще я посылала ей маленькие рисунки, акварели размером с почтовую открытку — ей негде было хранить большие листы. Матери нравились мои новые работы, «период Кандинского». Я нарисовала серию карандашных рисунков на кальке — это был автопортрет, но выполненный слоями, линия здесь, линия там, по одной на листе. Она должна была догадаться, сложить их вместе и посмотреть на свет. Я больше не собиралась делать это за нее. Ей самой надо было приложить усилие.
Мать написала, что у нее вышли стихи в «Кень-он Ревью» и в последнем номере «Зиззива», целиком посвященном поэзии. Мы с Клер поехали в «Бук Суп» на Сансет-Стрип и купили оба. Там было длинное стихотворение о беге в тюрьме, который занимал теперь большую часть ее дня. Когда не писала, мать становилась на беговую дорожку и пробегала сто миль в неделю. За четыре месяца она снашивала обувь до полной ветхости, иногда ей выдавали новую, а иногда нет. У меня появилась идея.
Я сделала на ксероксе десять копий стихотворения и стала использовать их как фон для рисунков. Сидя за столом в красно-белой кухне, я рисовала масляной пастелью поверх ее слов, поверх ощущения этого монотонного бега, бессмысленных, механических движений. Таких же, как ее мысли.
Пошли дожди, целый день их шепот слышался у запотевшего кухонного окна. Клер сидела рядом со мной, обняв ладонями чашку чая с мятой.