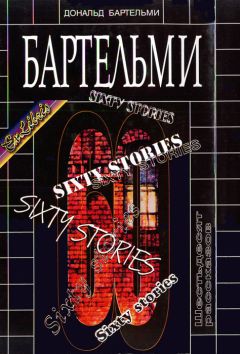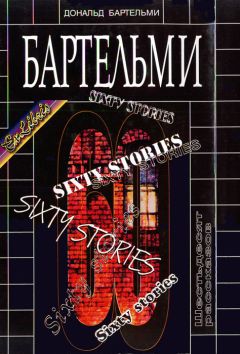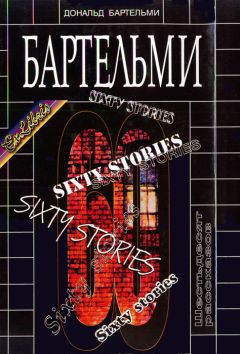Дональд Бартельми - Шестьдесят рассказов
— Раньше я этого вроде как не замечала, потому что я люблю тебя, но в общем-то твоя зеленоватость мне и вправду не очень нравится, — сказала Хильда. — Она немного…
— Так я и знала, — сказала Ребекка.
Ребекка ушла в спальню. Цветной телевизор оказался включенным, неизвестно зачем. В тусклом, зеленоватом сиянии развертывалось действие фильма «Зеленый ад».
Мне плохо, мне плохо.
Я займусь фермерским хозяйством.
Наша любовь, наша сексуальная любовь, наша любовь просто!
В спальню вошла Хильда.
— Ужин готов.
— А что там?
— Свинина с красной капустой.
— Я пьяная, — сказала Ребекка.
Слишком уж часто наши граждане оказываются пьяными как раз в те моменты, когда им лучше бы быть трезвыми, к примеру перед ужином. Опьянение заставляет человека забыть, куда он положил свои часы, ключи или бумажник, а также резко понижает его чувствительность к желаниям, нуждам и физическому благополучию окружающих. Причины чрезмерного употребления алкоголя понятны значительно меньше, чем результаты оного. Психиатры склоняются к мнению, что алкоголизм представляет проблему серьезную, однако разрешимую в некоторых случаях: общество анонимных алкоголиков не только популярно, но и действительно оказывает своим членам вполне реальную помощь, как говорят. А в целом все зависит от силы воли.
— Вставай, — сказала Хильда. — Прости, что я так сказала.
— Ты сказала правду, — сказала Ребекка.
— Да, — согласилась Хильда, — это правда.
— В начале ты не говорила мне правду. В начале ты говорила, что это очень красиво.
— Я и тогда говорила тебе правду, в начале мне казалось, что это очень красиво. Тогда.
Это самое «тогда», кульминационное слово Хильдиной последовательности из трех коротких фраз, является, при употреблении в подобном контексте, одним из самых ранящих слов человеческого лексикона. Ушедшее время! И прошлое, ушедшее вместе с ним. Чем измерить человеческую боль? Но не забывайте, что и Хильда тоже… Сложившаяся ситуация вызывает вполне оправданное сочувствие к Ребекке, однако, дорогой читатель, Хильде тоже не позавидуешь, ибо истина, как справедливо заметил Бергсон, предмет весьма горячий, равно обжигающий пальцы и тому, кто ее кидает, и тому, кто ловит.
— Ну и что же остается? — пьяно, но вполне логично спросила Ребекка.
— Я буду любить тебя, несмотря на…
Хочу ли я, чтобы меня любили несмотря на? А вы? А все остальные? Но не это ли происходит со всеми нами, до некоторой степени? Нет ли у всех нас той или иной существенной черты, которую следует милосердно упускать из вида? Я в упор не замечаю в тебе того, ты в упор не замечаешь во мне этого, вот так вот мы и упираемся из последних сил, чтобы не дай бог не нарушить размеренного хода своих до хруста накрахмаленных, благоухающих левкоями жизней. Такую политику можно определить как «оптимальное использование сложившейся ситуации» (по одежке протягивай ножки), унылая идея, всегда казавшаяся мне бесконечно далекой от американского идеала. Однако мое критиканство следует сопоставить с мнением других авторитетов, например покойного президента Маккинли, утверждавшего, что все мы должны утверждаться в благоприятном, пусть не всегда ликующем расположении духа, ибо сие есть единственно практичный и достойный образ действий.
Хильда погладила Ребекку по голове.
— Снег пошел, — сказала она. — Скоро все будет в снегу. И мы будем вместе, как и в прошлые снежные времена. Пить косорыловку у огня. Истина — это запертая комната, время от времени мы сшибаем с нее замок, а затем снова навешиваем. Завтра ты сделаешь мне больно, и я скажу тебе, что ты сделала мне больно, и так далее, и так далее. Хрен с ним. Вставай, вечнозеленая подружка, пошли ужинать.
Они сидят за столом. Над свининой с красной капустой поднимается вкусный пар. Они мирно обсуждают правление президента Маккинли, беспощадно ревизованное историками-ревизионистами. Рассказ кончается. Он был написан по нескольким причинам. Девять из этих причин останутся в тайне. Десятая состоит в том, что не нужно никогда забывать про человеческую любовь, которая вечно пребудет все такой же бесценной и неприглядной, что бы там ни было отстукано на барабане свежей страницы.
ПЛЕННИЦА
Пойманная мною женщина спросила, не могу ли я ее сфотографировать.
Я отснял три кассеты тридцатипятимиллиметровой пленки и направился, посвистывая, в фотолабораторию.
Я принес контактные отпечатки, и мы изучили их, один за другим. Женщина отметила маркером с полдюжины отпечатков — снимки, где она таращится в объектив. Она не отметила ни одного из улыбающихся снимков, хотя среди них были и очень удачные. Когда я принес пробные отпечатки (не успевшие еще высохнуть), женщина сказала, что они маловаты.
— Маловаты?
— Ты можешь их увеличить?
— До какого размера?
— А до какого ты можешь?
— У меня есть бумага двадцать четыре на тридцать шесть, хватит?
— Прекрасно!
Я взял кнопки и развесил по стенам ее комнаты огромные отпечатки.
— Сделай еще.
— Зачем?
— Хочу, чтобы они висели и в других комнатах.
— Такие же вытаращенные?
— Какие хочешь.
Я наделал отпечатков с улыбающихся негативов (а заодно отснял еще полдюжины пленок). Вскоре дом заполнился ее портретами, она была везде.
* * *
Позвонил М. и сообщил мне, что он тоже поймал женщину.
— Какую?
— Таиландку. Из Таиланда.
— Она говорит по-английски?
— Великолепно. Она рассказала мне, что там, у себя дома, она преподает английский.
— Высокая?
— Не меньше твоей. Может, даже чуть повыше.
— Что она делает?
— Вот прямо сейчас?
— Да.
— Полирует свои кольца. Я дал ей уйму колец. Целых пять колец.
— Ей понравилось?
— Думаю, да. Она надраивает их как бешеная. Как ты думаешь, можно из этого заключить, что она аккуратная?
— Посмотрим, не нужно торопиться с выводами. А моя кидает мячик.
— Что?
— Я дал ей мяч. Она любит спорт. Она закидывает мяч в мусорный ящик.
— А мяч не испачкается?
— Это не тот мусорный ящик, который с мусором. Это специальный мусорный ящик.
— Ну и как у нее, хорошо получается?
— У нее все хорошо получается.
Пауза.
— Моя играет на флейте, — сказал М. — Она попросила флейту.
— Вполне возможно, что и моя играет на флейте, только я ее об этом не спрашивал. Этот вопрос как-то не возникал.
— Бедняга К.,-сказал М.
— Да брось ты, что его жалеть, этого К.
— У К. нет ровно никаких шансов, — сказал М. и повесил трубку.
* * *
Я спросил: «О чем ты хочешь писать?»
— У тебя будет возможность прочитать письмо. Я не могу этому воспрепятствовать. Ты же сам отнесешь его в почтовый ящик, больше некому.
— Ты согласна не сообщать ему, где ты находишься?
— Это почти невозможно объяснить. Как ты сам понимаешь.
— Ты его любишь?
— Я очень долго тянула с ребенком. Шесть лет.
— И что это значит?
— Очевидно, я не была уверена.
— А теперь ты уверена?
— Я старею.
— Сколько тебе лет?
— В августе исполнилось тридцать два.
— Ты выглядишь моложе.
— Нет, не выгляжу.
Она высокая, в ее длинных темных волосах проглядывает — если получше присмотреться — седина.
Она говорит: «При первом нашем знакомстве ты был пьян, как сапожник».
— Да, я помню.
Я наткнулся на нее в самой рядовой ситуации, на вечеринке с коктейлями, и она сразу же занялась моими руками — сперва трогала их пальцами, а затем вцепилась в запястья, самым возбужденным и необузданным образом, продолжая при этом спокойно рассуждать о каких - то там фильмах.
Чудесная, необыкновенная женщина.
* * *
Она хочет сходить в церковь!
— Что?!
— Сегодня воскресенье.
— Я не видел церковь изнутри двадцать лет. Если не считать те, что в Европе. Соборы.
— Я хожу в церковь.
— В какую?
— Пресвитерианскую.
— Ты пресвитерианка?
— Была когда-то.
Я нашел в телефонном справочнике пресвитерианскую церковь.
Мы сидим в церкви бок о бок, ни дать ни взять супружеская парочка. Бежевый полотняный костюм преображает ее тело в нечто тихое, безопасное, по-воскресному благостное.
Слева и справа от кафедры, на высоких резных стульях, восседают два священника. Один молодой, другой старый. Они ведут службу по очереди. За нашими спинами располагается хор, солирующий тенор поразительно хорош, я даже оборачиваюсь, чтобы взглянуть на него.
Мы встаем, садимся и поем вместе со всеми остальными, руководствуясь мимеографированным распорядком.
Старый священник, хрупкий, горбоносый, с коротким ежиком седых волос, одетый в черную сутану и тонкий белый стихарь с кружевами, стоит за кафедрой.