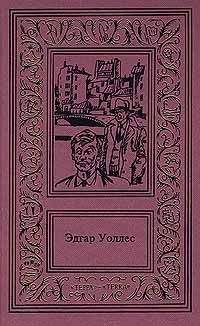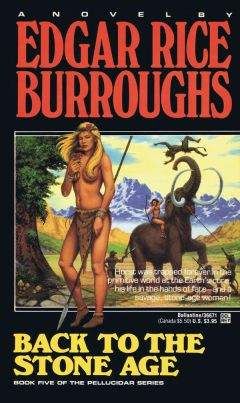Антонио Муньос Молина - Польский всадник
Он отказался от новой порции коньяка: теперь ему действительно нужно было идти. Конечно же, он зайдет еще, если майор не против, и об их встрече никто не узнает, поскольку общаться-то Рамиро ни с кем и не общается, то есть он разговаривает только со своим помощником Матиасом, который стал глухонемым из-за взрыва – может быть, майор его помнит – и получил прозвище Воскресший. Рамиро не увольнял глухонемого только из жалости: толку от него было мало, да в последнее время и заказов почти не было, но что бы стал делать бедняга, если бы он закрыл студию, – просить милостыню или выгружать овощи на рынке?
Майор Галас помог фотографу надеть плащ, вручил ему зонтик, который тот чуть не забыл, и проводил до двери, доброжелательно кивая в ответ на его слова. У калитки майор пожал фотографу пухлую слабую руку и пригласил заходить еще. Рамиро Портретист рассыпался в старомодных изъявлениях благодарности и монотонных извинениях: если майору что-нибудь потребуется, достаточно одного его слова, весь архив в его распоряжении. Если его дочь пожелает заказать свой портрет, Рамиро сделает его с большим удовольствием, он видел ее с майором на улице, очень красивая девушка – это будет настоящий портрет, по-старинному, черно-белый, со скульптурным контурным светом, как те, какие делал в лучшие времена дон Отто Ценнер, как бессмертные фотографии Надара.
Рамиро приходил много раз за зиму, с зонтом и пустым портфелем сборщика платежей, в плаще, синтетическом берете и шарфе, которым укутывал грудь и шею, чтобы уберечься от предательского, по его словам, климата Махины. Он всегда заявлял, что останется не более чем на полчаса и выпьет только одну рюмочку коньяка, а в результате уходил затемно, осушив, глоток за глотком, половину бутылки. Однажды в апреле Рамиро принес в портфеле фотографию мертвой женщины, замурованной более века назад, выпил больше обычного и поведал майору Галасу величайшую тайну своей жизни. Потом, наверное, стыдясь этого, фотограф не приходил несколько недель, а когда наконец объявился, теплым и благоухающим майским вечером, вслед за ним приехал нелепый грузовик для перевозки фуража. Из его яйцевидной кабины с трудом вылез человек, улыбаясь с телячьим добродушием и мягко и быстро жестикулируя своими руками Геркулеса. Это был Матиас, Воскресший, бывший помощник Рамиро Портретиста, который закрыл свою студию, отыскав для глухонемого это место и потратив половину своих сбережений на то, чтобы купить ему грузовик. Открыв заднюю дверцу и без видимого усилия достав оттуда огромный сундук, Матиас взвалил его на спину и принес в прихожую дома майора Галаса.
– Я уезжаю из Махины, друг мой, навсегда покидаю этот неблагодарный город, – сказал Рамиро Портретист, сидя на софе и глядя на свои руки, сложенные на вытянутых коленях старомодных демисезонных брюк. – Я думал сжечь архив, потому что не будет ни выставки, ни книги – ничего. Я так и знал, что этот Лоренсито просто болтун и идиот. Но я сказал себе: Рамиро, единственный в Махине человек с сердцем – майор Галас, почему бы тебе не подарить ему скромный труд всей твоей жизни?…
* *В школе об этом рассказал Павон Пачеко, первым распустивший слух, что Праксис завел интрижку с рыжей иностранкой.
– Не на что посмотреть, – говорил он с презрительностью эксперта, криво ухмыляясь.
Он застукал их во вторник вечером на одной из сомнительных дискотек в пригороде, куда ходили деревенские парни с красными, обожженными солнцем загривками, бойкие медсестры и распутные служанки. Эти дискотеки посещали и женатые развратники, пившие виски, курившие светлый американский табак и устраивавшие на танцевальной площадке жалкое представление, потому что были уже не так молоды, как им хотелось бы, и принадлежали к поколению пасодобля и публичных домов со столиками с жаровней и умывальными тазами.
– И там был Праксис, – сказал нам Павон Пачеко, – вы бы на него посмотрели!
С этим монашеским видом, какой он на себя напускает, когда читает стихи, он подкатывал к рыжей девчонке и так был увлечен этим занятием, что даже не ответил, когда Павон Пачеко с ним поздоровался, или притворился, что не замечает его. Они сидели на диване в самом укромном углу дискотеки – во вторник вечером, когда почти никого не было, кроме бывших каменщиков-поденщиков и продавцов, разбогатевших на строительстве, торговле автомобилями и электробытовыми приборами.
– Они явно не хотели, чтобы их видели, и неудивительно, – говорил Павон Пачеко, – девчонка точно несовершеннолетняя, ей не дашь больше семнадцати, грудь почти плоская и лицо в веснушках – кого еще мог найти себе такой придурок, как Праксис!
Однако мы не очень-то ему поверили, поскольку привыкли не доверять его выдумкам о сексуальных подвигах и оргиях с марихуаной и растворенным в кока-коле аспирином. Но главной причиной нашего недоверия было то, что почти ни разу за весь учебный год мы не видели Праксиса с женщиной. Лишь однажды в понедельник утром он пришел в школу в сопровождении коротко стриженной брюнетки в очках в золоченой оправе. Это была вылитая учительница старших классов – одна из тех довольно молодых женщин, отличительной особенностью которых было то, что они носили брюки и курили.
– Она собиралась выйти за Праксиса замуж, – решил Павон Пачеко, – но застала его в постели с рыжей и послала ко всем чертям. Вот что выходит, если плохо приучаешь женщин, – они об тебя ноги вытирают.
Сначала Надя не могла припомнить ту дискотеку: они ездили по многим подобным местам на его машине, где иногда в багажнике или под сиденьями лежали пакеты с литературой для нелегальной пропаганды – Праксис должен был передавать или забирать их вечером в самых невообразимых уголках.
– Так все и началось, – рассказывает она мне, – из-за пачки листовок или газет, спрятанных в коробке из-под печенья.
В ясный и холодный субботний день в декабре Надя вышла из дома, чтобы идти на рынок, и, когда спускалась к улице Нуэва по переулку Сантьяго, появился Хосе Мануэль на своей машине. Он опустил грязное стекло, спросил, куда она идет, и предложил подвезти. Праксис был улыбчив, как и в прошлый раз, но очень нервничал, курил без остановки и выходил из себя на светофорах. Он даже не смотрел украдкой на ее грудь и ноги, а когда они подъехали к рынку и вышли из машины, осторожно огляделся вокруг и проверил, хорошо ли запер дверцу. Автомобиль был очень старый, но другого у него не было, объяснил Праксис, и в конце концов он полюбил его, после стольких путешествий по дорогам Европы. В субботу по утрам, вдень самой оживленной торговли, на рынке в Махине был галдеж и сутолока, как на центральной площади. Там находились лавки оптовых торговцев фруктами, чуррерии и кафе, прилавки с овощами, специями, цветочными горшками, пластиковыми ведрами, синтетическим столовым бельем и посудой из дюраля, а в то время – еще и с барабанами и рождественскими фигурками библейских персонажей. При входе в эти огромные павильоны с железными балками, колоннами и мраморными прилавками уличный свет сменялся полумраком, а шум снаружи превращался в неясный гул шагов и голосов, усиленных резонансом сводов.
– Вы столько рассуждаете о заслугах Примо де Риверы и Франко, – говорил на участке лейтенант Чаморро, – а ведь этот рынок построила для вас Республика.
Стоял сильный запах рыбы, свежих овощей, черного перца, колбас, потрохов, жареных чурро, и поздним утром беспорядочная смесь всех этих запахов приобретала насыщенность начинающегося гниения. Хосе Мануэль, держа Надю под руку, прокладывал ей дорогу в толпе, будто ведя по переулкам мусульманского городка. Надя вспоминала белый свет, ровные цвета, линолеумные и пластиковые поверхности американских супермаркетов, а здесь видела ликование всех красок жизни, наполнявших счастьем все ее существо: красное мясо на прилавках, влажные темно-зеленые горы лука и белой свеклы, белоснежная цветная капуста, блестящая чешуя рыбы, кровь от только что отрубленной топором головы барашка, густая золотистая струя масла, наливаемого в бутылку через воронку, запах уксуса и тимьяна из высокого кувшина с оливками. Но больше всего ее потрясала головокружительная одновременность цветов и запахов, пронзительных и хриплых голосов торговок рыбой или яйцами, выкриков продавцов вразнос, порхания птиц, летающих между балками сводов, под мутной от грязи застекленной крышей. Надя рассказывает мне это воспоминание, принадлежащее и мне самому, и я хочу включить ее в галерею фигур, оставшихся в моей памяти с того времени, как будто подправляя групповую фотографию, чтобы добавить туда еще одно лицо. Ведь теперь я знаю, что в то утро, когда Праксис привез ее на рынок, я был там и мог видеть Надю, но ее лицо стерлось из моей памяти. Я стоял за овощным прилавком отца, в его белой куртке, оглушенный голосами женщин, и взвешивал картофель, лук или цветную капусту, но мне не удавалось безошибочно подсчитывать стоимость каждой покупки и давать сдачу со скоростью отца.