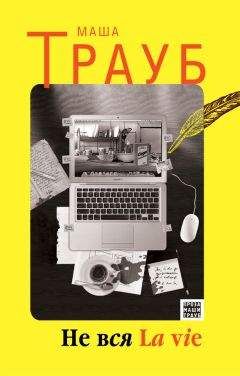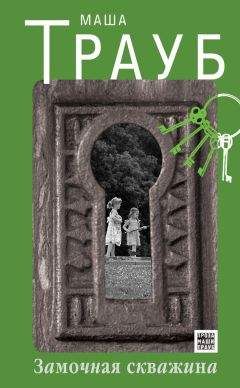Виктор Ерофеев - Лабиринт Два: Остается одно: Произвол
Лермонтов переосмысливает фольклорные сюжеты в любезном ему духе «мировой скорби», рисуя картину мира, полного антагонизмов: добра и зла, нежности и жестокости, любовной страсти и мертвенной холодности, подвига и коварного расчета, беспечности и прагматизма.
Наибольшее значение имеет в лермонтовских балладах антиномия красоты и смерти, которая получает различные толкования. Порой красота становится союзницей смерти, неумолимым палачом, и тогда раскрываются демонические черты красоты, ее сладкая, пьянящая душу губительность. Такова царица Тамара в одноименной балладе; ее красота принадлежит двум мирам:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла…
В «Русалке» же красота принимает образ смерти, неотличимый для наивного взгляда русалки от безмятежного сна. В «Трех пальмах» красота становится жертвой смерти. Наконец, как это видно в «Любви мертвеца», земная красота становится вдохновительницей такой любовной силы, которая разламывает роковой барьер между посюсторонней и потусторонней реальностями. Если у Бюргера мертвый жених является посланцем высшей воли, возмездием за «ропот», то у Лермонтова мертвый жених сам преступает божественный закон:
Что мне сиянье божьей власти
И рай святой?
Я перенес земные страсти
Туда с собой.
Так перекликаются начала и концы романтической баллады: любовь, караемая за дерзость божественным промыслом, и любовь, бунтующая против него в самом божественном пределе.
Когда баллада пугает — мне страшно. И в то же время мне весело, мне хорошо. Всемирный балладный триллер — в своей изначальной жанровой чистоте — не блажь слабонервного литератора, не «литературщина» опытного ремесленника, не «чернуха», разлитая по разным векам и странам, а репортаж из подкорки. Прислушайтесь к нему. Он говорит о возможностях слова.
1986 год Виктор Ерофеев
Ни спасения, ни колбасы
Будь на то моя воля, я без сомнения отправил бы маркиза де Кюстина в преисподнюю русского национального подсознания. Ибо в его книге «Россия в 1839» такая мистическая игра кривых зеркал, в результате которой Россия предстала в ней странным совмещенным отражением, каким ей не приходилось отражаться нигде и никогда: ни до, ни после, но именно благодаря непроизвольному совпадению вдруг высветлилось то, что таилось, роилось, безумствовало в глубине, вдруг выстроилась парадигма и выписалась ось.
Злосчастный француз, написавший изящный эпистолярный пасквиль, он же злопамятный аристократ, отправившийся в далекую деспотическую империю для сбора аргументов в пользу абсолютизма с тем, чтобы пнуть ногой французскую революцию, пославшую на гильотину и деда его, и отца, и вернувшийся из России убежденным либералом, лишь в малой степени повинен в содеянной им книге. И пусть это выглядит оскорбительным для его ума, воспитанного на безоговорочном рационализме XVIII века, но зато это предохраняет Кюстина от незаслуженных подозрений в гениальности. Чего не было, того не было, талант его был, если такое возможно, посредствен, и если вдруг его книга оказалась на голову выше своего автора, то, значит, здесь виноваты все: Кюстин, случай, Россия, провидение.
Но все-таки, кто же такой Кюстин?
Астольф де Кюстин родился в аристократической семье в разгар революции, 18 марта 1790 года. Его дед симпатизировал новым порядкам, был генералом, командующим Рейнской армией. В 1792 году, в связи с военными неудачами, он был отозван в Париж, обвинен в измене и обезглавлен на гильотине. Вступившийся за «изменника» младший сын генерала, отец Астольфа, тоже был казнен.
Мать Кюстина, Дельфина, известная в парижском обществе своей красотой и умом, до последней минуты верная своему мужу, была брошена в тюрьму и чудом избежала расправы. Фамильное состояние было конфисковано. Кюстин стал образцовой жертвой революционного террора. Он вырос нервным, красивым, болезненным.
Молодой человек смутно чувствовал в себе литературные способности («В течение многих лет я ищу свой талант и не могу найти, хотя чувствую, что из меня должно что-то выйти», — пишет Кюстин в 1817 г. в частном письме), а также обнаруживал склонность, сначала решительно им подавляемую, к гомосексуализму. Стоит ли о том упоминать? Сексуальные вкусы Кюстина не имеют прямого отношения к написанной им книге о России, но когда вокруг книги поднялся шум, о них вспомнили его недоброжелатели, желая дискредитировать неугодного автора.
Уступая просьбам матери, Кюстин женился, но молодая жена, родив ему сына, вскоре умерла. В 1824 году случился скандал, навсегда скомпрометировавший Кюстина в глазах высшего света. Он был обнаружен под Парижем в бессознательном состоянии, лежащим в дорожной грязи, избитым и ограбленным. Газеты поспешили сообщить, что Кюстина избили солдаты за то, что он пытался с одним из них условиться о свидании. Что случилось на самом деле, неясно, но ясно то, что Кюстин отныне стал парией. Вообще 20-е годы были для него полосой несчастий: после смерти жены умер во младенчестве сын, затем умерла мать.
Кюстин ищет забвения и утешения в путешествиях, литературе и католицизме. В дальнейшем его жизнь не была богата драматическими событиями. Он умер в 1857 году.
Если светское общество отвергло Кюстина, то литераторы охотно посещали его салон. На вечерах у Кюстина играл Шопен, с ним общались Виктор Гюго, Бальзак, Бодлер, Стендаль, Жорж Санд, Ламартин. В поисках своего литературного «я» Кюстин перебрал различные жанры: стихи, прозу, драму. Он написал четыре романа: «Алоис» (1829), «Мир, каков он есть» (1835), «Этель» (1839), «Ромюальд, или Призвание» (1848), но ни один из них не стал ни подлинным успехом, ни позорным провалом для автора.
До публикации книги «Россия в 1839» Кюстин оставался, по словам своего немецкого друга Генриха Гейне, «un demi homme de lettres».[143] Он искусно описывал свои путешествия в Швейцарию, Италию, Англию и особенно в Испанию (цикл писем «Испания при Фердинанде Седьмом», 1838). Эти заметки не имели ни исторического, ни литературного значения и достаточно быстро устаревали. Однако именно в них Кюстин отшлифовывал свой метод опасного, но всегда соблазнительного сравнительного анализа различных национальных ментальностей, прокладывая дорогу двум куда более основательным, чем он, философам: Николаю Данилевскому и Освальду Шпенглеру с их идеями обособленных культурно-исторических типов. Сравнительный анализ блестяще оправдал себя в русской поездке. Четыре тома писем «Россия в 1839» (первое издание, 1843 г.) стали кульминацией литературной карьеры Кюстина, европейским бестселлером. Парадоксально, но факт: именно Россия обеспечила ему приличное посмертное существование в Пантеоне словесности.
Кюстин заметил сам, что в России он мало повидал, но о многом догадался. Действительно, за неполные три месяца пребывания в России он видел немного, его маршрут ограничился Петербургом, Москвой, Ярославлем и Нижним Новгородом, но, не владея языком, он угадал нечто такое, что дало Герцену возможность написать:
«Без сомнения, это — самая занимательная и умная книга, написанная о России иностранцем».
Слова Герцена — при том, что с тех пор о России написаны десятки тысяч книг, — верны, на мой взгляд, и сегодня.
Кюстина как следует «трясли» на русской пограничной таможне, но затем встретили в Санкт-Петербурге как желанного гостя. Сам Николай I оказал ему радушный прием и несколько раз на дворцовых раутах заводил с французом доверительные беседы, касавшиеся таких «горячих» тем, как самодержавие, республика и сосланные или казненные им декабристы. Император стремился заручиться поддержкой известного в Европе путешественника и благодаря ему в какой-то степени упрочить международный престиж России, сильно подорванный кровавым подавлением польского бунта 1830–1831 годов. Тонкий мастер светской беседы, Кюстин расточал комплименты царю в обмен на царскую доверительность.
У Кюстина, в частности, была конкретная цель выхлопотать для своего интимного парижского друга, польского эмигранта Игнация Туровского, разрешение на въезд в Россию. С этим вопросом он обратился к императрице, но наткнулся на вежливый, хотя и определенный отказ. Впоследствии кюстинские недоброжелатели пытались объяснить резкости в его письмах именно этим отказом.
Кюстин тайно писал свои русские письма, предусмотрительно никому не сообщая о них, и через французское посольство переправлял их в Париж. Наблюдательный автор описал северные пейзажи и столичные балы, клопов в гостиницах и широкую Волгу, одежду простонародья и Московский кремль. Он пришел к выводу, что русские, если у них отсутствуют калмыцкие квадратные носы, красивы, и речь их певуча. Но он не ограничился этнографией. В духе таких известных в то время книг, как «Германия» мадам де Сталь и «О демократии в Америке» Токвиля, Кюстин стремился к концептуальному восприятию страны. Он был подчеркнуто субъективен в своих эстетических оценках: невзлюбил знаменитый петербургский памятник Петру I работы Фальконе, с дилетантской лихостью высказался о «подражательности» поэзии Пушкина. Но главное, что его интересовало, — это национальный характер и режим.