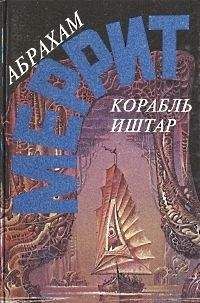Белобров-Попов - Русские дети (сборник)
Но Каннельярви — это несравненно.
Бабушка, напуганная моей недоношенностью и дистрофией в первый год жизни (а это пугающее слово возвращало её к памяти о ленинградской блокаде), откармливала меня специально, как гуся или свинку. Она сама ела мало, но всегда садилась возле меня и смотрела, как я ем. На её лице отражался каждый мой глоток. Она мысленно ела вместе со мной…
Когда я очевидно пошла в рост и вес, бабушка с удовольствием говорила, оглядывая мои бока:
— Экий лось вымахал!
Готовила она божественно, и это притом, что в Каннельярви никакого мяса не было — в пристанционном магазине продавался хлеб и «соевые батончики», дешёвые приторные конфеты. Мясо или курицу («куру», как говорили тогда) привозила мама по выходным, яйца можно было купить на станции у хозяюшек, рыбу иной раз продавали мужики, вечно ищущие на бутылку. Но парное молоко, овощи с огородика и ягоды-грибы — этого было вдоволь, и томлёные утренние каши, и черника с молоком, и щавелевый суп (щавель с полей, сами собирали), и блины с пенками от варенья, и грибки во всех видах… что говорить. Для счастья человеку нужны лето и бабушка.
Итак, план подарочного дня намечен твёрдо: с утра по грибы, затем обед…
Боже, нет, нет. Озеро! Надо пойти по лесам вдоль Школьной дороги (чуть шире обычной тропинки, когда-то вела к школе? Какой школе?) — тогда нам легко будет после грибов завернуть на озеро, то самое, поющее (каннеле — петь, ярви — озеро, по-фински). Мы зовём его просто Лесным озером, в нём я и научилась плавать.
Когда приезжаешь в поезде на станцию, слева пейзаж без признаков жизни, вроде там ничего и нет. Нетушки: иди по тропинке вверх, и увидишь наш хуторок, а дальше тропинка всё так же прямо, без извилин, ведёт через лесной ручей и товарную железную дорогу к сопкам, по сопкам через молодой лес (были пожары, засадили молодняком) — к чудному озеру, лежащему в маленькой долине аккуратным синим блюдечком. Каждый раз удар блаженства, когда оно открывается вдруг, с вершины холма. Сколько раз выходила я к этому озеру — и всегда один и тот же удар, без изъяна: верный признак рая. Чистейшая прохладная вода, песчаное дно и почти безлюдно, разве на выходные туристы с палатками, о, эти шумные, гитарные, топающие по тропинке через наш хутор туристы. Этим словом бабушка ругается, «туристы» сиречь бездельники, выпивохи, неряхи. Турист в природе — лишний и опасный человек, он оставляет мусор, он может не загасить костёр. «Туристами» в злые минуты бабушка припечатывает родителей, когда те на выходных не дают никакой пользы хозяйству. «Приехали как туристы!» Помню, особенно уязвили Антонину Михайловну белые брюки, в которых на дачу однажды заявился папа. На что годен в лесу человек в белых брюках? Примирило же бабушку с ним искусство отыскивать поляны грибов — лисичек, за что папу в нашем поселении прозвали «королем лисичек». Это уже было хоть что-то!
Грибы, озеро, обед — а потом опять малость труда: полить огород, принести молоко, набрать воды. Вечером же, если у нас конец июля — на станцию приехал вагон-клуб.
Да, кроме материальной части, жизнь в Каннельярви прирастала и культурой, и умственным развитием. Вы бы попробовали при советской власти скрыться от культуры, ха. Это было нереально. Советская власть не могла оставить в покое ни дальние кишлаки и аулы, ни глухие деревни и полустанки. Везде были обязаны учиться, учиться и ещё раз учиться, везде работала система доставки и сования культуры прямо в рот. Поэтому на станции существовала библиотека, а в конце каждого месяца на три дня прибывал «вагон-клуб» — передвижной кинотеатр.
Ты платил десять или двадцать копеек, заходил в вагончик и смотрел себе кино. Помню, я просидела сразу два сеанса — на первом давали индийский фильм «Цветок в пыли», на втором — «Дядю Ваню» Кончаловского. Никакой разницы между фильмами я тогда не ощущала, для меня всё кино было одинаковым чудом. Однажды я так волновалась за героев, что сгрызла подол своего нарядного шёлкового платьица и вышла вся в крупных дырках спереди.
Что я могла бы посмотреть июльским вечером 1967 года? Может быть, «Не горюй» Данелии? Прекрасно… А потом мы пустим дождь и сядем с бабушкой и Верой играть в карты.
В дурака — подкидного, переводного и круглого, в де вятку и кинга. Вместо денег фигурировали, как правило, спички, предмет вообще на даче важный — прямое назначение само собой, но из спичек мы ещё и строили игрушечные дома и колодцы… Турнир же на двоих с бабушкой в подкидного длился всё лето, и результаты к финалу августа достигали былинных размеров — скажем, 123 бабушкиных выигрыша супротив 95 моих. (Бабушка всегда по итогам летнего турнира выигрывала, потому что жульничала, да, жульничала.)
В нашей крошечной, метров шести, комнате (и метра три были сени при входе, где бабушка готовила на керосинке) — две кровати. Они сооружены из матрасов, набитых сеном, которые лежат на старых «козлах» (брёвна на ножках с упорами для пилки дров). Чистота идеальная, порядок необычайный. Каждый дециметр пространства продуман — к примеру, наши огородно-ягодно-грибные заготовки бабушка дер жит под кроватями, не загромождает избу.
В кровати приятно поворочаться — сено скрипит, бельё всегда белое, прокипячённое, накрахмаленное…
Перед сном бабушка обычно что-то рассказывает мне из своей жизни. Эти рассказы круче всех прочитанных мной сказок, ведь бабушка пережила две войны, потеряла первого мужа, схоронила младшего сынишку накануне Отечественной, была в Ленинграде в блокаду, руководила группой радисток, спасла своих детей, эвакуированных в Пятигорск, её старший сын попал в тюрьму, второй муж завёл другую семью и с войны к ней не вернулся…
Но охотно и радостно Антонина Михайловна вспоминала не об этом — а о детстве в городе Вышний Волочёк, где её мама Татьяна Ивановна работала на ткацкой фабрике господина Рябушинского.
Полвека с лишним прошли, а она помнила, какие чудесные туфельки купила ей мама на рынке и какой вкус тогда был у колбасы. Бабушка вообще утверждала, что мы, детишки, ничего хорошего в принципе знать не можем, потому что не жили «до революции» и «до войны» — когда ещё водились настоящие вещи и продукты.
Много лет спустя я встретила подобную жалобу в записках Юрия Олеши — он утверждал, что у фруктов «до войны», особенно у слив, был абсолютно другой, «настоящий» вкус. Что это — аберрация личного восприятия или непостижимая действительность? Как исследовать мир вкуса, это ведь так индивидуально. И если деградировало, то что именно — продукт или его ощущение?
Верней всего, что люди деградируют вместе со своими продуктами. Но станцию Каннельярви шестидесятых годов это никак не затрагивает. У меня в маленькой моей летней жизни всё настоящее — еда, озеро, кино, бабушка, подруга…
Я так укрыта и защищена, что, пожалуй, разрешу ночью грозу. Хотя боялась её тогда панически, до потери сознания. Гроза на глухом хуторе, без громоотводов — дело серьёзное. Сразу отключали электричество, бабушка затаскивала в дом все вёдра и тазы (металлические же были, какая там пластмасса в шестьдесят седьмом, а металл притягивает молнию), я забиралась под одеяло с головой. О проделках молний, особенно шаровых, говорили немало страшного — одна такая залетела в дом Марь Иванны, у которой мы брали молоко, ушла в розетку под окном, был палёный след. Говорили, когда влетает шаровая, надо не шевелиться, замереть совсем. Говорили, никогда нельзя вставать в грозу под одинокое дерево среди поля, — это я выучила крепко и при первых звуках грозы, если она заставала меня в открытом пространстве, простодушно падала плашмя и лежала как кающийся грешник до конца Его гнева.
Но если гремит ночью, когда сухим и тёплым ребёнком лежишь в своём домишке и слушаешь партию ударных мастера дождя по крыше — да за ради Бога.
Рядовой летний день, без происшествий. Сколько их было у меня? Больше тысячи — это точно. Они так и лежат на дне сердца, и до сих пор никак не удаётся поверить мне в холодный ужас жизни.
Отвяжитесь от меня, демоны. Жизнь — это ода к радости. И она же игра в круглого дурака. Собирание впечатлений и хозяйский труд. Надёжные друзья и здоровая бабушка. И родители ещё не развелись. И в библиотеке есть Марк Твен и Достоевский. И в кротких мечтах сто белых верно ждут тебя на «семьдесят девятом»… Вот деньги — они тут не при делах.
Небольшой пролог к раю, наверное.
Анна Матвеева
Теория заговора
Седьмой класс — это как седьмой круг ада, считал Пал Тиныч. Кипящая кровь — правда, не во рву, а в голове учителя. Измывательства гарпий — роли гарпий он, пожалуй, доверил бы сёстрам-двойняшкам Крюковым и Даше Бывшевой, которая всё делала будто бы специально для того, чтобы не оправдать ненароком своё нежное, дворянской укладки имя. Кентавр — это у нас еврейский атлет Голодец, вечно стучит своими ботами, как копытами, а гончие псы — стая, обслуживающая полнотелого Мишу Карпова, вождя семиклассников. В пору детства Пал Тиныча такой Миша сидел бы смирняком на задней парте и откликался бы на кличку Жирдяй, а сейчас он даже не всегда утруждается дёргать кукол за ниточки — они и так делают всё, что требуется.