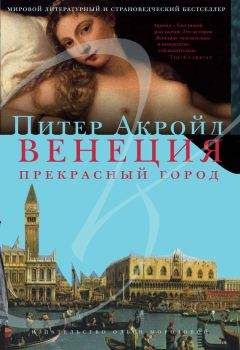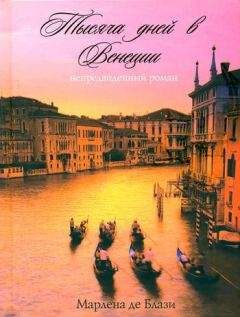Анхелес Мастретта - Любовный недуг
Он был благодарен Эмилии за счастье быть любимым и за ежедневную радость видеть, как она идет по жизни в поисках чего-нибудь неожиданного. Она не умела сдаваться, никогда не использовала слово «неизлечимый», не верила в Бога, но очень верила во что-то вроде Промысла Божия. Когда у нее не шло какое-нибудь лечение, она искала другое. Она научила Савальсу, что никто не болеет одной и той же болезнью одинаково, и поэтому нельзя лечить всех одним и тем же способом от одного и того же. Она ставила диагноз, только взглянув на цвет кожи больного или на свет из его глаз, прислушавшись к тону его голоса или глядя, как он передвигает ноги. Савальса считал ее такой же эффективной, как выездная лаборатория. Она не задавала вопросов, без которых можно обойтись, как, например, простой и прямой: «Что у вас болит?» – а когда никто вокруг не решался назвать причины какой-нибудь болезни или все считали ее неизвестной и опасной, она делала пару-тройку невероятных категоричных заявлений и в большинстве случаев оказывалась права. Благодаря ее стремлению примирить всех, больница иногда больше напоминала группу сумасшедших, чем научное учреждение, но в глубине души он соглашался с этой разнородностью ее взглядов и ее поисками.
К тому времени, когда вся страна была охвачена эпидемией испанской инфлюэнцы, кроме штата врачей с университетским дипломом, в их больнице усилиями Эмилии постепенно появилось столько же лекарей без диплома, чье присутствие снискало больнице известность как месту, где возможно все. Под ее крышей работали, обогащаясь в процессе равноправного обмена знаниями, три известных врача-гомеопата, два индейских знахаря, называвших себя традиционными врачами, и акушерка, достающая младенцев с большей ловкостью, чем знаменитый нью-йоркский гинеколог. Кроме того, Хоган посылал к ним каждый семестр одного своего врача, более других открытого для этого удивительного обмена навыками и умениями.
Словно эхо донесло до нее зов, маленькая Теодора появилась однажды в полдень в аптеке Саури. Когда Эмилия и Савальса пришли в дом Ла Эстрелья, умирая с голоду, около четырех часов дня, они увидели, что Хосефа лежит на полу, а Теодора, сидя у нее на спине, нажимает ей на те места, которые со дня ее падения с лестницы не давали ей покоя. От Эмилии Савальса знал об этой старушке и ее виртуозных руках, поэтому он не удивился, что жена встретила ее с неизменным восторгом ученицы и обрадовалась, а вовсе не удивилась ее приезду.
В завершение всего, для того чтобы эта больница окончательно стала похожа на цирк с тремя манежами, однажды оранжевым вечером появился Рефухио с полной кучей загадок под мышкой. Когда Эмилия увидела, как он входит в ее кабинет в сопровождении Диего Саури, у нее снова екнуло все внутри, и она, обнимая его, подумала: что там с ее мужем, с которым у нее, по предсказанию Рефухио, кс могло быть никакого будущего? Она уже почти четыре года не видела его, и, хотя она была спокойна и ее сердце как никогда было окружено заботой, Эмилия знала, как человек, знающий, что у него есть глаза, но не думающий о них постоянно, что ее тело неизменно хранит любовь к другому мужчине ее жизни. Она не думала об этом слишком много, она хранила эту уверенность, как хранят секреты в самой глубине души, улыбаясь при этом, и иногда даже позволяла себе ее подпитывать. И хотя она не задавала вопросов, когда Милагрос кратко пересказывала содержание его писем в отсутствие Савальсы, она знала о нем все, что ей было нужно. Что он жив, что у него все хорошо, что он продолжает писать для нескольких газет и все еще продолжает ее любить, хотя люто ее ненавидел весь первый год, последовавший за расставанием, которое он однозначно расценил: она меня бросила.
У Милагрос был особый талант забывать письма Даниэля в том же ящике туалетного столика, где Эмилия хранила свои вещи, – в ее спальне в доме Ла Эстрелья. Там Эмилия находила их каждые два или три месяца и туда же их возвращала, как следует прочитав на следующий день во время сиесты. Это снова были очень длинные письма, начинавшиеся с краткого «Дорогая тетя» и далее всегда на «вы»: Как у Вас дела? Вам бы понравилось, я Вам посылаю, я по Вам скучаю, я Вам напомнил… В них никогда не говорилось о возвращении, мало – о политике, много – о других странах, ничего – о других женщинах. Иногда ему удавалось сделать так, чтобы Эмилия почувствовала себя виноватой, хотя ее имя даже не упоминалось, а иногда она бежала в кресло-качалку, чтобы вспомнить очарование былых времен. Потом время, любознательность и любовь, которая была рядом, снова вставали, как фильтр, между реальной жизнью и воспоминаниями о мужчине ее многочисленных войн.
Рефухио поступил на работу в больницу в должности основного разговорщика. Сначала только Эмилия верила в лечебную силу его языка, но со временем все стали считать, что он приносит несравнимую практическую пользу. Рефухио мог разговаривать с роженицами сразу после родов, с умирающими, с получившими травму детьми и с мужчинами, никак не хотевшими ничего говорить, кроме своего имени. А поскольку у него было больше времени слушать, чем у остальных, он превосходно составлял истории болезни.
В последние годы Эмилия особенно интересовалась всем, что было связано с работой головного и спинного мозга – этими двумя мизантропами, которые, запертые внутри своих костяных коробок, сами контролируют все, но никому не хотят давать отчет о своей деятельности, разве только иногда в виде редкого проблеска, с которым непонятно, что делать. К ней попадали все больные с резкими сменами настроения, нарушениями памяти или речи, параличом, судорогами, нарушениями зрения, координации движений или любыми необычными заболеваниями. Она занималась тем, что классифицировала симптомы и сигналы, которые могли идти от того, что уже начали называть центральной нервной системой и что тогда уже было не намного менее изученным и таинственным, чем восемьдесят лет спустя. Рефухио ей помогал, выслушивая и терпеливо фиксируя каждое ощущение, образ, импульс или просто вздор, который нес пациент, когда ее не было рядом.
Беспокойный 1920 год стал свидетелем антиправительственного восстания большинства генералов, недовольных реставрационным штилем каррансизма. Во главе стоял Альваро Обрегон и его военная звезда, наличие которой у ее любимого земледельца всегда признавала Хосефа. Этот год Эмилия прожила как никогда заинтригованная угнетенным внутренним состоянием одной женщины, без причины впавшей в тоску; необычными снами одного мужчины, просто так пришедшим в лихорадочное состояние; едва слышимой ангельской музыкой, доносившейся до одной девушки перед тем, как она начинала биться в конвульсиях, которые ее священник считал признаком одержимости дьяволом; затрудненной речью умнейшего мальчика, прекрасно при этом пишущего; категоричностью, с какой один взрослый человек утверждал, что его жена – зонтик; ясными воспоминаниями о прошлых событиях и полным забвением настоящего у некоторых стариков; теплым фиолетовым светом, исходящим от всех предметов, как их видел один юноша за несколько минут до обморока, из которого он выходил пять минут спустя обессиленный, словно совершил восхождение на гору. Ничто не делало такой полной се профессиональную жизнь, как общение с безутешностью, наслаждением и упоением, заключенными в родстве между чувствами, мыслями и фантазиями человека и тем, что находится в его теле и называется «мозг». Одержимая этой страстью, она решила поехать в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в конгрессе, на который ее внезапно пригласил доктор Хоган ласковым, но требовательным тонем, каким учителя всегда разговаривают со своими лучшими учениками. Савальса не мог поехать с ней, потому что больница не сумела бы обойтись без них обоих такое длительное время. Поэтому Эмилия пригласила с собой Милагрос, всегда готовую отправиться в путешествие, ведь в ее возрасте, по ее словам, это был единственный разумный способ рисковать и чувствовать себя снова влюбленной.
Это было в октябре, и накануне палата депутатов провозгласила законным президентом республики генерала Альваро Обрегона. Савальса посадил их на корабль, отправлявшийся из Веракруса курсом на Галвестон и Нью-Йорк. Эмилия заметила взгляд брошенной собаки, который Антонио старательно прятал, глядя прямо перед собой, словно он что-то потерял за горизонтом. Это был великодушный и рассудительный человек, он бы скорее дал отрезать себе руку, чем оспаривать у Эмилии ее право на эту поездку, но, несмотря на усилия, прилагаемые им, чтобы скрыть от нее свою тревогу, все внутри него оборвалось, потеряло покой, так ему необходимый. Ему отказывала логика, с которой он пытался объяснить сам себе, что он теряет ее не навсегда, что разлуки укрепляют любовь, что раньше он мог жить один, что он не умрет, хотя и находится в состоянии агонии.
– Если хочешь, я не поеду, – сказала Эмилия, очень тронутая, но с известной долей лукавства.