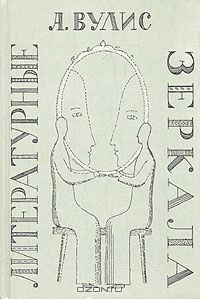Нил Гейман - Дым и зеркала (сборник)
Бенхэм тоже засмеялся, и поскольку сидел рядом с психиатром, постарался остаток вечера вести себя нормально.
За ужином он выпил слишком много вина.
После кофе, когда уже не мог придумать, о чем говорить, он поведал психиатру (фамилия которого была Маршалл, хоть он и велел Бенхэму называть его Майком) о мании Саймона Пауэрса.
Майк засмеялся.
— Звучит забавно. Может, немножко странно. Но беспокоиться не о чем. Возможно, это галлюцинации, связанные с приемом антибиотиков. Хотя немного смахивает на синдром Капграса. Слыхали о таком?
Бенхэм кивнул, подумал и сказал:
— Нет.
Он налил себе еще вина, не обращая внимания на скривившую губы жену и ее едва заметное покачивание головой.
— Ну, синдром Капграса, — поведал Майк, — это сугубо материальная мания. Ей был посвящен целый раздел в «Журнале американской психиатрии» лет пять назад. Как правило, при таком синдроме человек верит, будто самых важных людей в его или ее жизни — членов семьи, коллег, родителей, возлюбленных, кого угодно — заменили — вы только послушайте! — двойники. Это относится не ко всем знакомым, только к избранным. И часто даже к одному-единственному человеку. Никаких сопутствующих идей. Только эта. Люди с острым эмоциональным расстройством и тенденцией к параноидальной шизофрении. — Психиатр почесал нос ногтем большого пальца. — Был у меня такой случай два-три года назад.
— И вы его вылечили?
Психиатр покосился на Бенхэма и усмехнулся, показав все свои зубы.
— В психиатрии, доктор, в отличие, скажем, от клиник, где лечат болезни, передающиеся половым путем, нет такого понятия «вылечить». Можно только «адаптировать».
Бенхэм пригубил красное вино. Позже ему пришло в голову, что он никогда не сказал бы того, что сказал, если бы не вино. Во всяком случае вслух.
— Я не думаю… — Он помолчал, вспоминая фильм, который видел подростком. (Что-то про похитителей тел[83]. — Не думаю, что кто-либо когда-либо пытался проверить, были те люди на самом деле заменены двойниками или нет…
Майк — или Маршалл — или как там его — очень странно посмотрел на Бенхэма и повернулся к другому своему соседу.
Бенхэм же и дальше попытался вести себя нормально (что бы то ни значило) и потерпел полный крах. Более того, он жутко напился, принялся что-то бормотать о гребаных колонистах, а после вечеринки вдрызг разругался с женой, и каждое из этих проявлений ничуть не свидетельствовало о норме.
Кончилось тем, что жена заперла перед ним двери спальни.
Он лежал внизу на диване, накрывшись мятым покрывалом, и мастурбировал прямо в трусах, пока горячее семя не выплеснулось ему на живот.
Под утро доктор проснулся от ощущения холода в чреслах.
Вытершись рубахой, в которой был на вечеринке, он тут же снова уснул.
Саймон не мог мастурбировать.
Хотел, но у него рука не поднималась. Она лежала рядом с ним, здоровая, прекрасная рука; но он словно забыл, что нужно сделать, чтобы она пошевелилась. Глупо, не так ли?
Разве нет?
Его прошиб пот. Пот стекал с его лба и лица на белые хлопковые простыни, в то время как тело оставалось сухим.
Что-то захватывало его изнутри, клетка за клеткой. Нежно тронуло лицо, словно в поцелуе; лизало горло, обвевало дыханием щеку. Касалось.
Ему нужно было встать с постели. И он не мог встать с постели.
Он хотел закричать, но рот не открылся. А голосовые связки отказывались вибрировать.
Он все еще мог видеть потолок, освещаемый огнями проезжавших машин. Потом потолок поплыл: глаза все еще принадлежали ему, и из них медленно текли слезы, скатываясь на подушку.
Они не знают, что у меня, подумал он. Они говорят, у меня то же самое, что и у других. Но я не мог этим заразиться. Я заразился чем-то еще.
Или, скорее всего, думал он, прежде чем зрение его затуманилось и темнота поглотила остатки Саймона Пауэрса, оно само меня настигло.
Очень скоро Саймон встал, умылся и внимательно осмотрел себя в зеркале ванной. И улыбнулся, словно ему понравилось то, что он увидел.
Бенхэм тоже улыбнулся.
— Рад сообщить вам, что вы совершенно здоровы.
Потянувшись на стуле, Саймон Пауэрс лениво кивнул.
— Я чувствую себя потрясающе, — сказал он.
Он и в самом деле отлично выглядит, подумал Бенхэм. Так и пышет здоровьем. И ростом вроде стал повыше. Очень привлекательный молодой человек, решил доктор.
— Значит, ммм… эти ваши ощущения прошли?
— Какие ощущения?
— Те, о которых вы рассказывали. Будто ваше тело больше вам не принадлежит.
Саймон мягко помахал рукой, словно опахалом. Холод отступил, и Лондон плавился от внезапно нахлынувшей жары; это было совсем не похоже на Англию.
Саймон казался удивленным.
— Все это тело принадлежит мне, доктор. Я в том абсолютно уверен.
И Саймон Пауэрс (90/00666.L ХОЛОСТ. МУЖ.) усмехнулся так, словно весь мир тоже принадлежал ему.
Доктор провожал его взглядом, когда он выходил из кабинета. Саймон показался ему более крепким и менее уязвимым.
Следующим к Джереми Бенхэму был записан двадцатидвухлетний молодой человек. Бенхэм должен был сказать ему, что у него положительный тест на СПИД. Ненавижу эту работу, подумал он. Пора в отпуск.
Он спустился вниз, чтобы позвать того пациента, и наткнулся на Саймона Пауэрса, оживленно беседовавшего с хорошенькой сестрой-австралийкой.
— Это должно быть чудесное местечко, — говорил он. — Хочу туда поехать. Хочу везде побывать и со всеми повидаться.
Он положил руку ей на локоть, и она не сделала ни малейшей попытки освободиться.
Доктор Бенхэм остановился рядом и тронул Саймона за плечо.
— Молодой человек, — сказал он, — только не попадайтесь мне больше на глаза.
Саймон Пауэрс усмехнулся.
— Вы меня здесь больше не увидите, док, — сказал он. — Во всяком случае, не в таком качестве. Я ушел со своей работы. И собираюсь в круиз вокруг света.
Они пожали друг другу руки. Рука Пауэрса была приятной, теплой и сухой.
Уходя, Бенхэм все еще слышал, как Саймон Пауэрс болтал с медсестрой.
— Это будет потрясающе, — говорил он. Бенхэм подумал, интересно, Пауэрс имеет в виду секс или кругосветку, да нет, поправил он сам себя, определенно и то и другое.
— Я намерен отлично поразвлечься, — говорил Саймон. — И уже заранее предвкушаю, как будет здорово.
Вампирская сестина
Я здесь, я жду на перепутьях сна,
Объятый тенью. Вкус ночи чую я —
Холодный, пряный… Я жду мою любовь.
Луна надгробье делает бесцветным.
Она придет — к ногам склонится мир.
Вдвоем во тьме… Как остро пахнет кровь!
Для одиночек та игра — почуять кровь,
А тело требует объятий сна,
И их мне не заменит целый мир.
Луна пьет тьму у ночи, как вампир.
Я, прячась в тень, читаю камень строк:
«Жива, любимая… Не умерла любовь !»
Во сне мечтал я о тебе — любовь
Ценил я выше жизни — выше крови.
И солнца свет искал меня под камнем,
И был я мертв, как всяк мертвец, —
но спал…
А пробудясь, туманной дымкой
Отправился я в сумеречный мир.
Из века в век я попирал сей мир,
Мой дар ему, похожий на любовь:
Украдкой поцелуй — и снова тьма.
А в теле снова жизнь, и в жилах — кровь.
С приходом утра я — лишь смутный сон,
Под камнем погребен, я — хладный труп.
Я боли не чиню, я — хладный труп.
Тебя ж приемлют жертвой время, мир.
Я предлагал тебе всю правду снов,
А твой удел — одна твоя любовь.
Так стоило ль бояться, если кровь
Все ж слаще на ветру, а пуще — в ночь.
Порой моя любовь выходит в ночь…
Порой лежит недвижно, хладный труп,
Не зная радость, что приносит кровь,
Иль шествие сквозь тени в этот мир;
Гния в земле. О ты, моя любовь, —
Шепнули мне, — восстала ты во сне.
Я ждал у камня, провожая ночь.
Ты не пришла, тебе все снилась кровь.
Прощай, я предлагал тебе весь мир.
Мышь