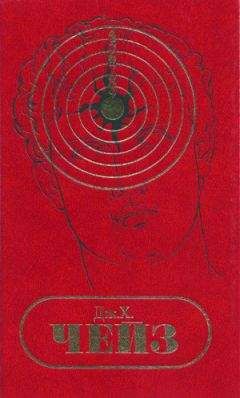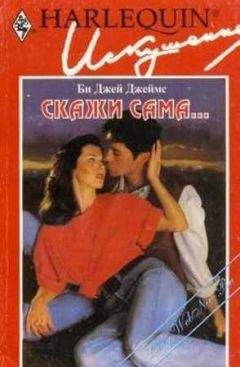Джеймс Мик - Декрет о народной любви
А мне, слышь-ко, все проще и проще ложь дается, даже чтобы гордыню свою прикрыть, а ее-то у меня и вовсе быть не должно!
Вот, скажем, вернулся я этим вечером с темного неба и рассказал, как протянул мне Спаситель ярый, алеющий меч. Правда, конечно. Но я сказал, будто лик Его был исполнен печали, а ведь не было этого, Омар! Смеялся Иисус! Протянул мне меч на обожженных руках, да как захохочет надо мною!
Расстрел Муца
По тому как выстраивались на снегу путейцы, Муц заключил, что расстреливать их будет сам Бондаренко и что жить осталось не более нескольких минут. Он вдруг ощутил, как дорог ему скрип собственных шагов по снегу — казалось, то была некая собственность, что он владеет ею точно так же, как каждою крупицею льда. Желание пригубить снег поразило.
— Постойте, — попросил офицер, — перед расстрелом…
— У нас так не заведено, — ответил Бондаренко, встав на месте и развернувшись, — последних просьб не исполняем.
Такая быстрота правосудия не удивила Муца. Председатель — из тех людей, что стреляют сразу же, как только достанут из кобуры наган. Без лишних слов. Влет.
— Пить хочется, — сообщил Йозеф. — Дайте снега в рот положить.
Бондаренко промолчал, и рука председателя ревкома не потянулась к кобуре, а потому Муц присел и зачерпнул ладонью небольшую пригоршню. Встал и опустил язык в холодную пыль. Ледяное крошево жгло, вкус оказался пронзительным. Мальчишка-Муц и мужчина-Муц повстречали друг друга, и на миг офицера захлестнуло таким восторгом, что, казалось, не устоять.
Что-то говорил Нековарж. Спрашивал, давно ли пришла телеграмма. Верный ход. Вновь вспомнились холодный мрак войны, железная дорога, шансы выжить… И Муц хотя и знал, что так нужно, однако же ему, едва не перешагнувшему за порог, открылись и неминуемость смерти, и великое чудо жизни, равноценных, не отвергающих друг друга, но, напротив, открывающих друг в друге новые грани, и были смерть и жизнь как шелуха и сердцевина. Смерть придавала жизни наивысшее очарование завершенности, предела, а жизнь, всякая секунда ее, умаляла смерть. И еще понимал Йозеф: хотя сейчас, в единственную секунду эту, он способен постичь откровение, но позже сам же его и отринет с неловкостью, то ли не веря, то ли позабыв, как всё было, и что Анна, Самарин и Балашов, сами того не осознавая, уже стояли на том же пороге.
— Так отчего бы не запросить новых указаний? — обратился к комиссару Нековарж. Сержант неуверенно глянул на офицера, ища поддержки.
— Телеграф сломался, — отрезал Бондаренко.
— А чья работа?
— Немцы делали.
Покачав головой, Нековарж хлопнул себя по ляжке, по очереди оглядывая Йозефа и председателя ревкома.
— Да я бы за полчаса починил!
— Он починил бы, пан комиссар, — заверил Муц.
— С какой это стати? — недоумевал Бондаренко.
Йозеф видел, что это не было проявлением кровожадности — просто устал председатель, спать хотел, и чем скорее расстрел, тем быстрее можно заснуть. К тому же опасался выказать нерешительность перед лицом коллектива.
— Товарищ Бондаренко, — произнес Муц, — революции нужны патроны и снаряды. Среди вас есть раненые. Разумеется, если вы выступите на Язык, то чехов разобьете, но среди ваших солдат будут новые потери, погибнут мирные жители, появятся разрушенные здания и придется тратить боеприпасы.
Мы просим лишь о том, чтобы нам позволили выехать из России через Владивосток, вернуться домой. Признаю, что в Старой Крепости совершено злодейство. Однако приказ отдавал командующий нами капитан Матула. Сатрап и сумасшедший убийца. Готовы доставить вам пленного командующего в обмен на возможность беспрепятственно пройти на восток. Мой товарищ Нековарж починит ваш телеграф, чтобы можно было заручиться согласием руководства.
Комиссар вскинул брови, поджал губы и почесал затылок дулом нагана. Махнул оружием в сторону Муца, глядящего на Нековаржа:
— Вот пущу офицера в расход, а тебя заставлю телеграф чинить.
— Починить-то, конечно, можно было бы… но я тогда не стану, — отказался Нековарж.
— Ладно, — буркнул комиссар, убирая наган и хлопая в ладоши, чтобы взбодриться и принять решение, — пора провести заседание ревкома.
Пройдя некоторое расстояние, встал в середку стоявших полукругом коммунистов, говоривших по очереди. За пленными приглядывал низкорослый бородатый мужичок в шинели не по росту: молча, не сводя с арестованных парламентеров глаз. Немного погода Бондаренко вернулся, следом брели остальные ревкомовцы.
— Обсудили мы, значит, ваше положение и вот что решили, — начал комиссар.
Все члены ревкома видели большевистский фильм под названием «Зверство», где говорилось о резне в Старой Крепости.
Товарищ Степанов стоял на том, чтобы всех чехов безжалостно перебить за то, как вели себя в фильме.
Товарищ Жемчужин возразил, что некоторые чехи и еврей лейтенант Муц смертоубийство пытались предотвратить.
Товарищ Степанов ответил, что фильм — произведение искусства и что игра актера в роли лейтенанта исказила действительность, в которой не бывает такого, чтоб еврейский офицер пошел против своих же солдат, а его бы за то не хлопнули.
Товарищ Жемчужин возразил: раз образ лейтенанта неправдив, то, может быть, не стоит полагаться и на образы других актеров — откуда знать, делали ли чехи в действительности то, что показано, или нет?
Товарищ Степанов обозвал товарища Жемчужина контрой и клеветником на фильм. Товарищ Титов спросил за капитана Матулу: при эдакой наигранной жестокости — чем не актеришка из буржуазного синематографа? Товарищ Бондаренко сказал: телеграф-то сломан, и неплохо бы, ежели опять заработал. А не починят пленные — так утром с чистой совестью в расход пустим, прежде чем на Язык выйти. Предложение одобрили.
Комиссар провел пленных обратно, к себе в штабной вагон. По дороге Муц чувствовал, что Нековарж беспрестанно на него оглядывался. Делалось неловко. Прежде Муцу доводилось испытывать от Нековаржа уважение и поддержку, но только не благоговение.
— Ну так что? — спросил офицер. — Спасибо, что спас мне жизнь. Отчего ты так смотришь?
— Тебя засняли в фильме!
— Не меня, — поправил Муц. — Я даже не пытался остановить убийства.
— Но по фильму выходит, что пытался, братец, оно нам и на руку!
В поезде Нековаржа под конвоем двух вооруженных красноармейцев отправили чинить телеграф, в комнату за дверью с вывеской «Не входить», предупредив, что чеха ожидает расстрел, если он хоть пальцем тронет книги с секретными кодами.
— Удачи, братец, — напутствовал Муц, и последнее слово отдалось во рту незнакомым вкусом нового лекарства.
— Через полчаса непременно вернусь, братец, вот увидишь! — заверил сержант, скрываясь в тусклом свете, разлитом впереди.
Бондаренко предложил офицеру кресло и позволил устроиться в нескольких саженях от рабочего стола перед дальним окном. Вошел путеец и тотчас вышел, оставив два стакана чаю. Муц обхватил заледеневшими руками чеканный подстаканник. Как там Балашов? Возвращается ли к евнухам в сновидениях былая мужская сила?
Бондаренко согнулся над столешницей, прильнул к стакану, точно обессилел настолько, что не мог поднять. Прихлебывал чай. Откинувшись на спинку стула, выглядел не просто изможденным, но опустошенным. К удивлению офицера, комиссар, несмотря на смущение, заговорил с нескрываемым любопытством.
— Чехи… — произнес Бондаренко, — вечно друг друга готовы поубивать. А зачем? Ты-то, конечно, не из чехов…
— Я гражданин Чехословацкой республики.
— Все в толк не возьму, отчего ваш солдат, Рачанский, своего же офицера прибил. Очень волновался, а товарищ его, Бублик, тот еще сильнее разгорячился, перебивал всё. Не верили, что мы их расстреляем.
— Они были коммунистами, как и вы.
— Ну да, и нам они то же балакали. Случалось, и дело говорили. Но то чехи, а у нас — приказ! Да и говор у них такой, что не разобрать было, что лопочут.
— Вы похоронили расстрелянных?
— Там, на платформе, в хвосте эшелона они.
— У них семьи в Богемии остались.
— У всех семьи.
— Мне придется написать родственникам.
— Всем приходится. Тот солдат, Рачанский, всё твердил об убийстве офицера. То ли похвалы ждал, то ли должности. И всё говорил о том, какой великий революционер пришел в город. Называл его «клинком народной ярости». Кудрявые слова для простого солдата, да нерусского к тому же. Точно заучил где-то. А что, у вас в Языке и впрямь великий революционер объявился?
— Есть беглый каторжник — из образованных, студент. О нем-то Рачанский и говорил.
— Ссыльный?
— Говорит, бежал с каторги за Полярным кругом, с Белых Садов. Зовут Самарин.
Казалось, услышанное ничуть не заинтересовало Бондаренко. Комиссар откинулся назад, балансируя на двух ножках кресла, сомкнув руки на затылке и зевая, рассеянно глядя перед собой. За дверью слышалась работа инструментов по металлу.