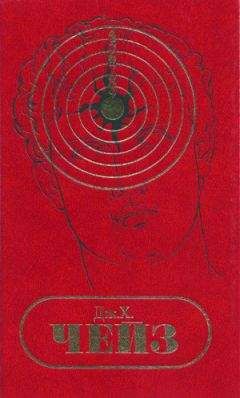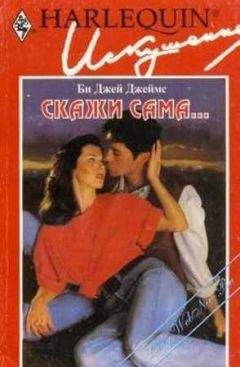Джеймс Мик - Декрет о народной любви
В вагон ввалился грузный вихрастый человек в помятом, заляпанном высохшей кровью, белом халате поверх черного пиджака, годов пятидесяти, с серебристой бородой и волосами, пучками торчащими из ушей; принес бутылку водки и три стакана. Лицо у вошедшего опухшее, сонное, сморщенное, сердитое, будто у новорожденного, которого как ни балуй — не задобришь после страданий, испытанных при рождении.
Сел на место Бондаренко, принялся разливать в стаканы и спросил:
— Чехи?
— Да, — признался Муц.
— А я думал, вас уже расстреляли. Доктор Самсонов. — И представившийся распределил стаканы, подняв тот, что держал в руке.
— И мне бы граммов сто, — намекнул Филонов.
— Солдату на посту пить не положено… Вы что, не знали? — отрезал доктор. — Итак… Чехи… За наше знакомство! Знаете, вы внушаете мне весьма теплые чувства, поскольку я уверен, что товарищество наше продлится всю жизнь… по крайней мере вашу, какая бы малость ни оставалась вам на этом свете. За дружбу до смерти! — С этими словами все трое осушили поднятые стаканы.
— Ты ж тоже на посту, — заметил Филонов.
— Лекарство по рецепту врача, — пояснил Самсонов, вновь разливая водку по стаканам.
— Мне тож лекарство надобно! Всего аж ломает! Лихоманкой скрутило!
— Это пустяки, это всё простуда, — отмахнулся доктор. Опять поднял стакан и выжидательно глянул на Муца.
— Предлагаю выпить за российский телеграф! — провозгласил Муц. Выпили за телеграф.
— Извините, что без закуски, — оправдывался Самсонов. — То ли голод породил революцию, то ли революция — голод? Всё никак в толк не возьму…
— Это из-за того всё, что кровососы навроде тебя с народом имуществом делиться не желают! — вставил Филонов.
Доктор вздохнул:
— Видите ли, я был либералом. Всю жизнь мечтал и друзьям рассказывал: вот дадут свободу, не станет царя, не будет дворянства и священников… Так ждал!.. А теперь, когда мечты осуществились, мне совсем не нравится происходящее. — С этими словами доктор вновь наполнил стаканы и распределил. Нековарж неспешно поднялся и предложил свой стакан Филонову. Тот принял.
— Невероятно! — воскликнул доктор. — Приговоренный к смерти выполняет желание палача! Никогда прежде не видел ничего подобного…
— За победу мировой революции! — рявкнул Филонов и залпом осушил стакан. Помедлив, высосал водку и Самсонов. Муц не отставал.
Рот у доктора вытянулся так, что сделался похож на лягушачий, а нос сморщился.
— Первые лучше прошли, — заметил эскулап.
Распахнулась дверь телеграфной, явился Бондаренко. Деликатно протиснулся мимо Филонова и смерил взглядом врача — тот привстал со стула. В движениях его сквозила некоторая виноватость, точно у актера, изображающего застигнутого в барской библиотеке слугу.
— Сидите, — успокоил врача комиссар, — вы же с нами сотрудничаете…
Доктор сел, а председатель ревкома растянулся на полу, напротив Нековаржа и Муца, опершись затылком в вагонную стенку. Прикрыл глаза.
— Телеграфировали? — спросил Муц. — А, товарищ Бондаренко?
Эскулап, по-прежнему двигавшийся точно пародия на нерасторопного семейного дворецкого, наполнил водкой еще один стакан, опустошив бутылку, и с преувеличенной деликатностью, на цыпочках, будто болотная цапля, доковылял до того места, где устроился комиссар. Бондаренко открыл глаза, глянул вверх, покачал головой и смежил веки. Доктор, всё так же на цыпочках, приковылял обратно, осушив стакан по пути.
Муц предпринял новую попытку:
— Товарищ…
— Да отправил я вашу телеграмму. Спите, чехи. Разве им не положено спать, товарищ доктор?
— Да, — согласился Самсонов, кивая и силясь вытряхнуть последнюю каплю из бутылки себе в стакан. — Если бы сон их оказался глубоким, узнали бы, что уготовано судьбой, и мига бы не прошло. Минуты сна равняются годам, так что за несколько часов до рассвета успели бы прожить целые жизни. По крайней мере, сам я только во сне и живу.
Муц обернулся к Нековаржу.
— Братец, — выговорил офицер, нахмурился, но тотчас же улыбнулся. — Да, теперь-то я понял, что значит это слово. Не смотри на меня так, прошу.
— Как?
— Точно обо мне беспокоишься сильнее, чем о себе самом. Как тебя по имени?
— А зачем говорить, братец? Ведь вернемся к остальным — снова по фамилии звать придется, самому же неудобно будет.
— Можно подумать, нам удастся уйти отсюда живыми.
— Ну, я-то, братец, ничуть в этом не сомневаюсь. Верю я в эту искорку, что по проволоке полетела. Проволока, братец, тонкая, длинная, но искорка — она как свет мчится! Лучше нет средства, чтобы весточку передать. Ни холодно ей, ни голодно, и устали не знает. Вот она здесь, а глядишь — и там уже, в пятидесяти верстах, чуть ли не в мгновение ока долетела. Так что не тревожься, братец. Дошла уже телеграмма.
— Но телеграфистам придется передавать дальше!
— За них я, братец, ручаться не могу. Но ведь для того и сидят телеграфисты, чтобы искорку эту дальше перегонять. Кто они такие, чтобы свет останавливать?
От выпитого натощак голова у Йозефа кружилась, в висках колотило, в глазах резало, и все конечности ныли. Засыпал. Оставалось бороться со сном, чтобы смаковать последние часы. Вот только в вонючем, тесном загоне смаковать было нечего. По звуку комиссарского дыхания можно было без труда догадаться, что он уже забылся сном. Доктор прикорнул за столом, головой на сплетенных гнездом руках. Не спал один Филонов; часовой прислонился к стене, прикладом ружья упершись в пол. В Москве четверть одиннадцатого, а здесь — два часа ночи. Анна, должно быть, уже давно уснула глубоким сном.
— Нековарж, — обратился Муц к сержанту. Йозеф увидел, как между холмов в сибирской ночи пролетали от края до края горизонта вспышки. — Я знаю, как женщины устроены. Сейчас объясню. Ты слушаешь? Нужно уверить дам, будто посылаешь им весть. И не беда, если женщины не понимают кода. Главное — чтобы верили, будто послание важное, что от них зависит, сумеешь ли ты донести смысл. Понимаешь ли, Нековарж? — Но чех уплывал вдаль на льдине и молчал.
Муц пробудился. Телеграф клацал, точно зубы. Часы показывали пять утра по местному времени. Спали все, кроме часовых: те дремали. Йозеф встал. Закричал:
— Товарищ Бондаренко! Телеграф! Ответ пришел!
Вагон ожил. Филонов вскинул ружье и прицелился в Муца. Бондаренко зевнул, моргнул, поскреб пальцами темя и поднялся. Глянул на офицера, кивнул и медленно направился в телеграфную. Проснулся и Нековарж.
Йозефу казалось, будто он чувствует запах пробивающегося рассвета, впитавшего южный ветер и кедровый дух.
— Вот так искорка! — воскликнул чешский сержант.
Вернулся Бондаренко, держа зажатые в кулак бумажные жгутики. Поглядел на Муца, покачал головой:
— Местные известия… Сообщение из Верхнего Лука, по здешней линии. У твоей бабы, Филонов, сын народился.
Часовой покраснел, ухмыльнулся. Начал было «Вячеслав… Славка…», но тотчас осекся и потупил взгляд. Когда вновь поднял глаза, то успел совладать с улыбкой, напустив на себя серьезный вид.
— Никаких поповских имен! — заявил часовой. — Пусть будет Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция и Троцкий! Мелортом назову!
— Мелорт, значит, — повторил комиссар и кивнул. — Хорошее имя, верно отображающее нашу коммунистическую действительность. Действительно, Слава — в самую точку!
— А если внук родится, — просипел сквозь завесу кашля проснувшийся доктор, — то можно и Мелортом Мелортовичем назвать…
Подойдя, Филонов что есть силы заехал доктору по уху. Самсонов вскрикнул, пошатнулся, но не упал. Со стола слетел стакан, покатился по ковру, однако не разбился. Читавший ленту комиссар поднял взгляд.
— Говорил же я вам, доктор, — бесстрастно произнес председатель ревкома, — не издевайтесь над рабочим классом. Было время, когда ваши только и делали, что зубы скалили — то над простыми людьми, то над дворянством, то друг над другом… Но кончилось ваше время. Стоит пошутить над новым человеком, человеком дела, — и вас ударят, чтобы под ногами не путались. Кстати, товарищ Филонов, может быть, ребенку лучше подойдет имя Роза?
Все недоуменно взглянули на Бондаренко.
— Ошибочка у меня вышла, не так прочитал. Дочка родилась.
Муцу не спалось. Телеграф пищал безостановочно. Часовой стрелки на часах будто и не было. Минутная бестолково дергалась, с каждым тиканьем преодолевая одно деление. Отвести от нее взгляд не было сил.
Усевшись на полу, сонный Бондаренко неспешно разбирал телеграфные ленты. Муц смотрел то на часы, то на комиссара и снова на циферблат, однако безучастность брала верх. Точно расстреливать станут кого-то другого, а он, Йозеф, уже мертв, и загробная жизнь его протекает здесь, в вагоне. Неужели уже светает и пробивается в черноте синева?