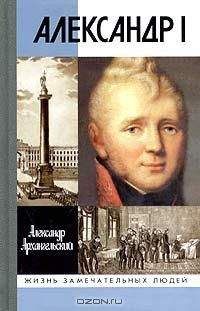Виктор Лихачев - Единственный крест
Конечно же, Толстикова могла просто взять и спросить Асинкрита обо всем, что касалось Лизоньки и ее родителей. Но мешала проклятая гордость. Ведь та же Галина ни о чем не просит. Вадим Петрович приходит и за ужином все рассказывает. А Сидорин во время редкой совместной трапезы может с абсолютно серьезным видом рассказывать Лизе-младшей, например, о ежах.
— Представляешь, Лисавета, — вещал Асинкрит, — он же мученик, этот еж.
— Почему мученик?
— А как же иначе скажешь? Добрейшее существо, а весь в колючках. Ему приходится всякий раз в колючий шар сворачиваться, а толку?
— Толк есть, — горячо возразила Лисавета, — его волк «цап», а еж ему иглы в нос. И волк бегом…
— Волк бегом? Даже лиса, почти тезка твоя, на что уж зверь хилый, от ежа одни иголки оставит.
— Что ты хочешь этим сказать? — спросила Толстикова.
— Что оружие ежа — иголки, вовсе не оружие. Заяц — другое дело. Знает косой…
— Косой! — засмеялась Лиза-маленькая. Ей очень нравилось, как Асинкрит говорил о зверях. Будто все они ему — друзья или знакомые.
— Да, косой.
— И что же он знает, Асинкрит Васильевич? — иронию в голосе Толстиковой не услышал бы только глухой.
— А все он знает, — невозмутимо ответил Сидорин, — что ни зубов острых, ни иголок у него нет. А раз так, выход один — поднял уши и сиди в кустах. Увидят — давай деру. Может, спасешься. Вернемся обратно к нашему ежу. Был хотя бы злой, кидайся на всех — зауважают. А то — в клубок. Вы, Елизавета Михайловна, видели на дороге раздавленных машинами зайцев?
— Нет.
— Я — только одного. Чокнутый, наверное, был заяц.
— Косой и чокнутый — это круто, — не удержалась Лисавета.
— Правильно формулируешь, — одобрил Сидорин. — А ежиков убиенных на дороге? Сколько угодно, не так ли?
— Просто зайцы быстрее бегают.
— А я о чем толкую? Ежик и бегает… сами знаете как, но — и это самое грустное, — бежать не пытается. Мчится на него машина — кругом темень, мрак и вдруг вспышка света, рев мотора. Беги, дружок, может пронесет. Так нет! Свернется в свой треклятый клубок — и все. Прощай белый свет… Но это еще не все, мои дорогие Елизаветы. Бедный ежик, пока по лесу шляется, всех паразитов — мыслимых и немыслимых к себе прилепит. Клещи…
— Ребята, мы за столом сидим или где? — не выдержала Толстикова.
Ребята переглянулись.
— И вообще, Лиза, — в голосе Лизы-старшей послышался металл, — если все съела — иди поиграй в комнату. Мне с дядей Асинкритом надо поговорить.
— А если не все?
— Что — не все?
— Не все съела?
— Доешь в комнате.
— Спасибо, я поняла, — вставая из-за стола, сказала Лисавета.
— А вот я доел.
— Асинкрит, мне действительно нужно поговорить с тобой. Если мы с тобой, конечно, друзья.
— Как формулирует…
— Асинкрит, я все знаю, — сказала Лиза, когда девочка ушла.
— Неужели? — всплеснул руками Сидорин и открыл от удивления рот.
— Я серьезно. Ведь это касается Лизы, и я должна…
— Ну, договаривай.
— Все знать.
— Так ты же все знаешь?
Наступило долгое молчание. Сидорин понял, что он перегибает палку:
— Лиза Михайловна, а почему бы тебе ни сказать просто, по-человечески: мол, беспокоюсь о вас, Асинкрит Васильевич, поделитесь, что у вас на душе…
— Я… я действительно беспокоюсь. За Лизу. И за тебя тоже. А еще в твоих глазах — тревога. Я ее вижу.
Сидорин пристально посмотрел на Толстикову, моментально став серьезным.
— Тревога? Пожалуй, да. Но ее причина с нашим делом не связана.
— Но ведь Глазуновым звонили!
— Мне тоже. И что из этого? Кого не бояться, того не запугивают. Уже хорошо.
— Пока не вижу ничего хорошего.
— Доля правды в твоих словах есть, но почему ничего? Стоило мне и Вадиму поговорить соответственно с Романовским и Тимофеевым — сразу же нам стали звонить доброжелатели. Значит, мы на верном пути.
— Расскажи, пожалуйста, о своем разговоре с Романовским.
— Да особо нечего рассказывать. Сначала делал удивленные глаза, а затем вдруг завелся. Ни с того ни с сего процитировал мне Окуджаву: «К черту сказки о богах», заявил, что лучшую часть жизни уже прожил и оставшуюся желает пожить по-человечески.
— Все понятно. Жаль.
— И мне тоже. Кстати, как у него с твоей тетушкой?
— Она сейчас в Питере. Кажется, Романовский ей звонит. Думаешь, Сергей Кириллович…
— Похоже. Еще сказал, что хочет быть счастливым. На том мы почти и попрощались.
— Почти?
— Я дал ему рецепт счастья на каждый день.
— Интересно.
— Да ничего особенного. Выпиваешь минимум шесть бутылок пива и идешь гулять по центру города. Идеально — если ты не знаешь где находиться туалет или его там нет.
— Сидорин, опять шутишь?
— Вовсе нет. Гуляешь час, другой. Потом едешь домой в общественном транспорте или ищешь укромное местечко. Мне можно не продолжать?
— Хочешь сказать…
— Именно. После этого наступает такое облегчение, а вместе с ним счастье…
— И ты это сказал Романовскому?
— Но ведь жаждет же человек счастья! А потом… зря, конечно, я это сказал…
— Будь другом, продолжай.
— О Лизе я сказал. О том, что такое счастье — мы понимаем по-разному. Вот, все.
— Нет, не все.
— Хорошо, не все. Еще сказал, что в этом мире существуют законы, которые не писаны на бумаге. Ждешь огромного счастья, не знамо что подразумевая под этим, а тебя — «бац!»… Вот, теперь точно все.
— Асинкрит…
— Не хочется вспоминать, жестоко я с ним…
— «Бац» — что означает в версии Сидорина?
— Ты все о частностях. Главное в моей мысли было другое: что мы в этот мир отдаем, то и получаем взамен.
— Асинкрит, я не сомневаюсь в том, что ты замечательный философ…
— Это не философия, это жизнь.
— Пусть так. Ты сказал: «бац» — и ушел?
— Конечно.
— Посмотри мне в глаза. Ведь врешь.
— Разве? Бац, сказал я и… Каюсь, глупость в самом конце сморозил. Далось мне это пиво.
— Причем здесь пиво?
— При том самом. Выпьешь, говорю, свои шесть бутылок, добежишь до родного туалета — и ничего не получится.
— Почему? — простодушно спросила Толстикова.
— А это надо у почек спросить, почему. Слушай, а что, я должен был его благодарить за столь доверительную беседу? Почему ты молчишь?
— Просто слушаю тебя. Значит, считаешь, что в этот момент благодаря тебе в мире стало больше доброты? А может, ты себя Господом Богом возомнил? Определяешь, кого что ждет.
— Как же вы достали меня, Лиза Михайловна!