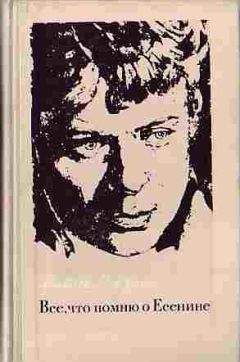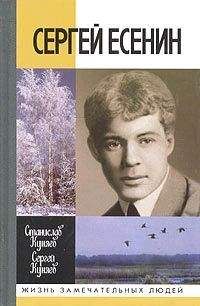Виталий Безруков - Есенин
— Спасибо. Ну, я слушаю вашу диссертацию.
Лена опять сняла очки и начала восторженно, как на экзамене по истории.
— Седьмого ноября тысяча девятьсот семнадцатого года сравнительно небольшая кучка революционеров, поддержанная из-за рубежа врагами России оружием и деньгами, свергла Временное правительство и захватила власть в стране. Затем разогнали Учредительное собрание. Ленин сказал: «Морали в политике нет, а есть только целесообразность».
Чтобы удержаться у власти, большевики срочно создают карательные органы. Седьмого декабря тысяча девятьсот семнадцатого года Совнарком поспешно узаконивает ВЧК. Председателем, как вы знаете, был назначен Дзержинский.
Хлысталов согласно кивнул.
— Но вы не знаете, Эдуард Александрович, что он страдал эпилепсией и расстройством психики.
Хлысталов непроизвольно приложил палец к губам.
Лена, спохватившись, стала говорить тише.
— Дзержинский набирал в ВЧК уголовников, психопатов, параноиков, откровенных садистов и сексуальных маньяков, большинство из которых коммунистами никогда не были. Все без исключения ответственные должности в этой карательной машине захватили худшие представители своих народов — евреи, латыши, кавказцы… Я опять процитирую Ленина: «Мы Россию отвоевали, должны теперь Россией управлять. Расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты… Будьте образцово беспощадны, надо поощрять энергию и массовость террора!»
— Когда это он говорил? — переспросил Хлысталов.
— В феврале восемнадцатого года. Не было губернии, где бы против режима большевиков не выступили рабочие и крестьяне, но эти выступления подавлялись с невиданной жестокостью. Я вижу, вы не верите… Вот строго секретная записка члена Политбюро ВКП (б), — сказала Лена, доставая из одной из папок документ. — Вот, прочтите, это записка Ленина.
Хлысталов взял листок, стал читать: «…чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного руководства удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше.
Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать…»
Лена вновь заговорила протестующе-звонко, гнев переполнял эту хрупкую с виду девушку:
— В основу деятельности так называемых «первичен» было положено осведомительство. Комиссары из ВЧК вербовали тайных агентов во всех слоях общества. Отказаться от фискальства было невозможно, потому что вопрос стоял: или — или! У людей брали подписку о тайном сотрудничестве. Выдача своих контактов с чекистами считалась государственным преступлением, и проговорившийся расстреливался немедленно. Все общество было окутано паутиной предательства. Теперь вы представляете, Эдуард Александрович, в какое время жил и творил Есенин…
Хлысталов погладил девушку по голове.
— Успокойтесь, Леночка! Все тайное рано или поздно становится явным. Но, — с сожалением вздохнул он, — диссертация ваша, боюсь, действительно не станет достоянием гласности, как вы сами выразились. Так что за дело Есенина вы обнаружили?
Лена по-детски смутилась.
— Простите… да, сейчас, идите сюда. — Она достала тоненькую папку. — Вот, читайте. Я отойду, потом позовете. Пойду кофе напьюсь, не могу… Только ничего не записывайте, а то вдруг… Хотя вас никто обыскивать не станет… Ну, читайте.
Хлысталов, поглядев по сторонам, развернул папку и прочел:
«Выписка из протокола заседания комиссии следственного отдела московской Чрезвычайной Комиссии от 17 января 1920 года: Дело кафе «Домино»».
Только что отгремела Гражданская война. В России голод, мор, отсутствие необходимых продуктов… Политика «военного коммунизма» и продразверстка довели народ до полного разорения. Прекратилась торговля. В деревнях нет спичек, гвоздей, керосина, ниток, ситца. Купить негде. Ни купить, ни продать. Прожив в Константинове две недели, Есенин приехал в Москву с тяжелыми впечатлениями от увиденного. Страшно ему было смотреть на эту «новую жизнь», вернее, на ее отсутствие. Видеть, как убивают русскую деревню, как погружается в небытие его родимый мир. Но и в Москве свирепствовали болезни и голод. Днем улицы заполняли тысячи беспризорников, с которыми не могла справиться милиция, ночью — банды отпетых преступников. И несмотря на все это, творческая молодежь, поэты различных направлений собирались в кафе «Домино» и вели яростные литературные споры, часто переходящие в скандалы, выяснение, кто из них гениальнее. На фоне бледных и бедно одетых поэтов, сидящих за пустыми столиками, резко выделялись разного рода спекулянты, жулики, пришедшие разогреться спиртом, который подавали в чайниках для заварки, послушать музыку, провести вечер с проституткой, подобранной на Тверской улице. Эти спекулянты и их «дамы», часто шикарно одетые, много ели и пили, вызывающе громко разговаривали и хохотали. Публики набивалось битком, люди стояли в дверях, проходах, на лестнице. Среди них были агенты уголовного розыска — поэзия тогда «кормила» многих, хлеб-то выдавался по карточкам.
После чтения стихов начинающих поэтов постаревший, много переживший, стремящийся ныне играть роль третейского судьи, эдакого литературного арбитра, символист Валерий Брюсов объявил Анатолия Мариенгофа. Но выступление его было недолгим.
— Не оскорбляй публику, хам! К чертовой матери… — началась перебранка с сытыми посетителями. От ближайшего к эстраде столика в сторону Мариенгофа полетел смачный плевок.
Снисходительно улыбаясь, Брюсов развел руками. Что, мол, поделаешь, Анатолий Борисович! Публике не по нутру, как вы «молитесь матерщиной». Извините, спасибо.
Есенин, наблюдавший из-за столика за позором приятеля, закричал:
— Толя, дай в морду этой сволочи! Я тебе помогу! — Легко вскочил на эстраду и, сунув пальцы в рот, оглушил зал диким свистом.
Озорничать на эстраде тогда было модно, а публику «Домино» сам бог велел ошарашивать.
— Молчать, я — Есенин! Объявите, Валерий Яковлевич! — и повернулся к залу, очаровывая всех своей необычной улыбкой.
— Что объявить, Сергей Александрович? Вас? Но вы уже представились, — съязвил Брюсов.
— Поэму новую… «Сорокоуст».
Брюсов поднял руку, призывая публику к вниманию:
— Бывший новокрестьянин, нынешний имажинист Сергей Есенин прочтет нам что-то новенькое… «Сорокоуст». Рожайте, Сергей Александрович!
Есенин побледнел, улыбка сошла с его лица, он шагнул к краю эстрады, поднял руку со сжатым кулаком, словно шашкой рубанул воздух:
Трубит, трубит погибельный рог!
Как же быть, как же быть теперь нам
На измызганных ляжках дорог?
Вы, любители песенных блох,
Не хотите ль пососать у лирика?
Скоро заморозь известью выбелит
Тот поселок и эти луга.
Никуда вам не скрыться от гибели,
Никуда не уйти от врага.
Есенин читал громко, так громко, что проходящие по Тверской мимо кафе люди останавливались, прислушиваясь к срывающемуся на крик голосу.