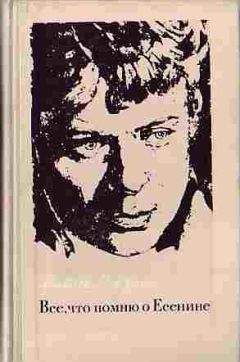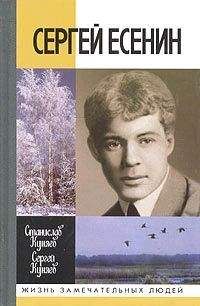Виталий Безруков - Есенин
Есенин читал громко, так громко, что проходящие по Тверской мимо кафе люди останавливались, прислушиваясь к срывающемуся на крик голосу.
А в это время в зале поднялись невероятный шум, свист, топот, крики:
— Долой! Хватит похабщины! Хам!
Мариенгоф, словно мстя залу за свое поражение, во весь голос кричал:
— Давай, Сергун! Давай, Есенин! Браво! Читай дальше!
Брюсов непрерывно звонил в колокольчик, пытаясь утихомирить посетителей.
— Доколе мы будем бояться исконно русских слов? Господа!
Но шум не смолкал. Тогда Есенин поднял руку и вновь улыбнулся. Эта его детски-наивная улыбка обезоружила и примирила всю эту разношерстную публику. Как будто солнечный луч пробился в наполненный дымом зал.
Все в ответ заулыбались. Дамы легкого поведения и просто дамы завизжали от восторга.
— Душка Есенин! — посылали они ему воздушные поцелуи.
Есенин, довольный, улыбнулся.
— Тихо, а то я опять буду материться.
Зал ответил ему одобрительным смехом:
— Давай, Есенин! Читай дальше!
Лицо Есенина посерьезнело, он опять взмахнул рукой.
Видели ли вы,
Как бежит по степям,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунный поезд?
А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?
Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила железная конница?
Брюсов, который вначале слушал с иронией мэтра, и в глазах его читалось: «Молодежь резвится… Пускай», — теперь неподвижно сидел и, как все, не отрываясь смотрел на голубоглазого юношу с копной кудрявых пшеничных волос. Такого он не слышал ни от кого из поэтов, такого не было раньше в русской поэзии. «Сорокоуст» — это панихида по умершему, которому заказывают и служат в церкви 40 дней, оттого и сорокоуст. Но поэма, которую теперь все слушали, затаив дыхание, напоминала не смиренно-заупокойную службу, монотонно читаемую дьячком, а крик отчаяния. Крик гибнущего человека, который всем своим существом сопротивляется надвигающейся агонии.
Черт бы взял тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не сживется.
Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.
Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелуях, —
Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя.
Оттого-то в сентябрьскую склень
На сухой и холодный суглинок,
Головой размозжась о плетень,
Облилась кровью ягод рябина.
Оттого-то вросла тужиль
В переборы тальянки звонкой.
И соломой пропахший мужик
Захлебнулся лихой самогонкой.
Последние строчки Есенин читал, преодолевая спазмы в горле, стиснув зубы, не давая вырваться наружу рыданьям, слезы катились по его лицу. Он гордо стоял на подмостках, пронзаемый сотнями взглядов, обожаемый и ненавидимый. Словно небожитель, спустившись на землю, увидел Есенин всю эту шваль, которая пила и жрала во время его чтения. Злобная гримаса исказила его лицо.
— Вы ждете, что я еще вам буду читать стихи? Пошли вы все к е…й матери! В спекулянты и шарлатаны! Хрен вам всем, а не стихи!
И, повернувшись к залу спиной, несколько раз шаркнул ногами, будто собака, закапывающая дерьмо.
И неизвестно, что больше обидело публику, — ругательства Есенина, к которым уж привыкли, или этот презрительный жест. Что тут началось! Публика повскакала с мест. Кричат, стучат, залезают на столы, кто-то кинулся на эстраду драться с Есениным. А тот словно ждал этого, скинул с себя полушубок, кулаком встретил нападающего, да так встретил, что он упал в зал, подмяв ближний столик со всей закуской и выпивкой.
Истошно завизжали и шарахнулись в стороны женщины, зазвенела разбитая посуда. Началась всеобщая потасовка, когда непонятно, кто кого и за что бьет. Молодые поэты-имажинисты выскочили на сцену защищать Есенина, а он, веселый, довольный, стиснув кулаки, набычившись, стоял в центре, словно «атаман» во главе деревенских парнишек. Неизвестно, чем бы закончилось это «выступление поэтов», если бы не чекист в кожанке, который вошел в кафе «Домино» и выстрелил из нагана вверх. Этот выстрел прозвучал как самый веский отрезвляющий аргумент. Все замерли.
— Я комиссар московской Чрезвычайной Комиссии Самсонов, — жестко сказал чекист. — Прошу предъявить документы и дать объяснение происходящему скандалу! Всем оставаться на своих местах!
В кабинет следователя на Лубянке чекист Самсонов ввел Есенина. За столом сидел некто и что-то писал. Есенин огляделся, пригладил растрепанные волосы, одернул пиджак, затянул галстуком разорванный ворот рубашки.
«Куда это меня? На милицию не похоже…» — подумал он.
И как бы прочтя его мысли, сидевший, все так же не поднимая головы, равнодушно произнес:
— Вы находитесь в ВЧК, в отделе по борьбе с контрреволюцией. ГПУ вам знакомо? — добавил он, оторвавшись от бумаг. — Нет? Тогда давайте знакомиться. Я — следователь ВЧК-ГПУ комиссар Матвеев. Обыщите гражданина, — приказал он Самсонову.
Тот быстро ощупал и вывернул карманы Есенина.
— Ничего нет, товарищ Матвеев. Только вот документы гражданина, — сказал Самсонов, кладя их на стол.
Следователь долго и придирчиво вертел их в руках и, спохватившись, вежливо предложил:
— Что же вы стоите? Садитесь.
— Благодарю. Я ждал, когда мне предложат сесть, — ответил Есенин, садясь на стул, положив вызывающе нога на ногу. Но под мертвенно-водянистым взглядом следователя снял ногу и выпрямился, словно провинившийся школьник перед строгим учителем.
— Имя? Фамилия? — начал допрос следователь.
— Сергей Есенин.
— Отчество?
— Александрович.
— Год и место рождения?
— Тысяча восемьсот девяносто пятый. Село Константиново Рязанской губернии.
— Национальность?
— Русский, — громко ответил Есенин.
— Вы что, антисемит? «Русский» произносите с вызовом… Русский — так и говорите просто «русский»… Партийность?
— Имажинист.
— Что это за партия такая? — переспросил следователь, недоуменно поглядев на Самсонова. — Разновидность эсеров, что ли?
Есенин, с улыбкой поглядев на обоих, пояснил:
— Это творческое течение в поэзии.
— Так и запишем, — согласно покачал головой следователь. — Течением — имаженист.