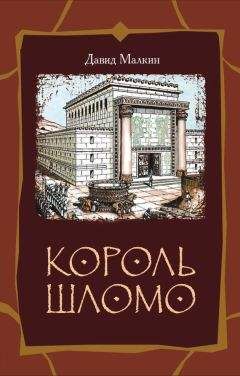Евгений Федоров - О Кузьме, о Лепине и завещании Сталина и не только
Нынче и присно есть все необходимые и достаточные основания величать Лепина первым подписантом, всех переплюнул, предвосхитил наше демократическое движение шестидесятых годов, много звезд на небе нашего диссидентского движения, видимо-невидимо, но Лепин звезда смелая, самая яркая, звезда первой величины из всех видимых звезд, будет правильным прямо сказать, что Лепин, надо помнить, господа хорошие, задолго до Якира и Красина поднял диссидентское, бунтарское, гордое знамя, определил все то, что случилось в 60-е годы, при этом не был анонимом, как Синявский и Даниэль, как некоторые, даже не мало таких развелось одно время. Алексеевой следовало бы с Лепина начать и вести историю “инакомыслия” и диссидентства, если она желает быть объективной и не тенденциозной, в ее книге “История инакомыслия в СССР” роль Лепина слабо прописана.
Спросим себя, а чем в те годы, когда Лепин начал борьбу, занимался Сахаров, авторитет, главный диссидент, главный пряник, наш заступник и великий современник? А вот чем: создавал для преступного режима преступное оружие, водородную бомбу! Разве не так? Хорош гусь, а где же совесть? Не видно никакого настроения к раскаянию, к самобичеванию, к самораспятию, не мучается угрызениями совести, судя по тому, что о нем пишет вдова, не из тех, у кого больна и свербит совесть, да и у нас с вами на его месте не свербела бы: ловко человек устроен. Получается, разработал и создал преступное оружие для преступного режима, технарь гениальный (“уж такой не Ландау!”, Исаак Яковлевич Померанчук не раз говаривал: “Андрей Дмитриевич не столько физик-теоретик: он — гениальный изобретатель”), нахватал орденов и премий, а мы с вами им восхищены до идолопоклонства, готовы наше время, семидесятые, восьмидесятые годы, назвать “сахаровским”, так во всяком случае полагает В. Корнилов. Где-то в августе 1953-о года, вскоре после смерти неожиданной Сталина, происходит испытание водородной бомбы, крепко хлестнула, на удивление, в затылках чесали, Маленков на радостях звонил Курчатову, поздравлял, спрашивал, чье это творение, разошелся на радостях, ликовал, кричал в трубку, “обнимите его за меня, расцелуйте”, пригвоздил жирным поцелуем несчастного к позорному столбу! закроем тему, она татуирована; знаем, позже, в шестидесятые, Сахаров завязал, так надо было! Но вопрос повисает, кто создал большевикам преступную бомбу? Пушкин? Папа Римский? Мы не против Сахарова, мы лишь горой за Гришу, ведь вон когда, в те самые годы он дерзает, с открытым забралом помчался в безумный бой, летит на брань с возрождающимся византизмом, национализмом, бескультурьем, обскурантизмом, мракобесием, за это пострадал, угодил в лагерь. Чем не герой? Силен, а? да такое и не снилось в те годы Сахарову. Не будем забывать, кто наш истинный пряник! когда думаешь об историческом письме Лепина, приходишь в восторг, начинаются сплошные охи! будем же чтить героя и отдадим ему положенные по праву почести. Не случайно Сталин обратил внимание на письмо Лепина. Оно роковым образом, как и письмо Капицы о русских талантах — напомним, Капица в простых словах, но настойчиво подсовывал и очень рекомендовал Сталину опубликовать книгу Гумилевского “Русские инженеры”, писал, “книга о наших талантах в технике, которых немало… картина развития нашей передовой техники за многие столетия… обычно мы недооцениваем свое и переоцениваем иностранное…”, в письме речь о наших замечательных умельцах, припоминается Можайский, который сконструировал еще в 1881 “прообраз” самолета, Розинг, в 1911 осуществил первую лабораторную телепередачу, эти изобретения определили лицо двадцатого века, но реализация изобретений произошла во Франции и США — определило судьбы послевоенной политики в сфере идеологии, нацелило вектор абсолютной державной воли, постулировало знаменательные, достопамятные трагические события. Так не будем уподобляться хитрожопому обывателю, цыпленок тоже хочет жить, который знай одно твердит, живи тихо, не залупайся, а, услышав жуткие подробности исторического письма, неистово возопит:
— Полное безумие! Князь Мышкин! Идиот! О тебе, идиоте, Женева плачет горькими слезами! нам дурно! Сам на себя донос написал!
VI. Кузьма ничего кроме дури и патологической еврейской мнительности не увидел в судьбоносном письме Лепина
В который раз увлеченно и с энтузиазмом, захлебываясь, рассказываю трагикомическую, обескураживающую и порядком душещипательную историю, святое предание Каргопольлага о том, как наш Лепин влюбился слету и насмерть в одну юную зэчку, уборщицу на подсобном хозяйстве, где пряники перебирают, по ОЛПу бродил, как зачумленный, не пожелал выходить из лагеря, и его пришлось выставлять за зону, ну — шекспировская драматургия, и все на наших глазах, в театр можно вовсе не ходить, страсти по Лепину (на какое только словоблядие не пускаются друзья, чего только не трепят друг о друге, и все это за глаза, страшно и вообразить! Тяжелый случай! Как только косточки не перемывают! Ах, ой, как нехорошо! каюсь, каюсь)...
У Кузьмы хоть глаз сугубо наметан, набит и уловист на всякие там психологические ляпсусы и казусы; в этом Кузьма безгранично смел и гениален, как никто, но и он первоначально потерялся и растерялся; лишь спустя некоторое время прозрел Лепина, как идею (Лепин, как социально-психологический тип), и вот вновь тычет мое робкое, растерянное, растерзанное, разорванное сознание в уродливый, жаренный фортель, который так преспокойно, так чисто учудил наш распрекрасный гегельянец, призывает к честному, объективному, объемному виденью мира, разбирает, детализирует эпизод, преподносит его, как козырь, как неслучайный символический акт в широком и даже метафизическом плане, как некую бесценную улику, пытается снять покрова с абсурдной действительности, призывает, зовет меня смело войти в непонятную, шокирующую и пугающую истину, а я сокрушен, растерян, труслив, слеп (известно, что подлинные слепцы не те, кто не видит, а те, кто не хотят видеть); Кузьма гнет свое, давит, угнетает наводящими вопросами, как Сократ в сочинениях Платона — саморегулирующийся, самоуглубляющийся диалог, рождающий и обнажающий истину.
2. Назвался груздем…Кузьма не сильно верит в фантастическое письмо к Сталину, да было ли оно? Не блеф ли? Предлагает и настойчиво рассмотреть эпизод, в котором весь Лепин, вся его натура, как на ладони. А эпизод знаменателен! Было, было, случай из самой жизни, дело было где-то в середине 50-х, давно, уже предания старины глубокой, живых свидетелей нет, собиралась компания, Кузьма был, Колька Смирнов, я был, Ирина Игнатьева, ну и Лепин, намеревались провести вечер, настроение было, поболтать, почесать языки, поддать немного, самую малость, как же без этого. К выпивону не приступали, еще не махнули по одной (— Со свиданьицем!), не крякнули. Лепин одарил нас тирадой о Гегеле, велемудро загибал что-то об инобытии духа, о напряженности неразвитого принципа, словоохотлив, славно хвост распустил, летал в философские дали, припадок краснобайства, заслушаешься (заливается соловьем (Зощенко: — Милый, почему так сладко соловей поет?), его тема, карты в руки, не лыком шит, современный усовершенствователь Гегеля; в разгаре речи, без всякого внешнего повода, видать, что-то вспомнил, случайная залетка, ассоциация, а то какой-то там постоянный зуд, что-то чешется, буравит, сверлит, свербит и не дает философской душе покоя, прервал бесстрашный лет свободной мысли, перебил самого себя, брякнул ни к селу, ни к городу, что в жизни не встречался ни с одним христианином, жаждет о встрече. Колька Смирнов возьми и скажи, словно за язык кто дернул: — Ну, я христианин. Сказал совсем бездумно, не опасаясь подвоха, не придавал особого значения сказанному; а Лепин весь напрягся и сосредоточился, набрался силы, духа, напорист, динамичен, реактивен, он в новом агрессивном качестве, у нас не заржавеет, вдруг, стремглав, словно с цепи сорвался или еще с чего-то там, весть такой порывный и истребительный, сорвался с места, распустил крылья, оторвался, летит, неожиданная атака, развивает ускорение, в два холеристических прыжка подскочил к Кольке, весь как до чрезвычайности самоуверенная, мощная зарница, молния, хлобысть по физиономии Кольке, вот так так! ручка маленькая да удаленькая, жилистая, видавшая виды, шелапугу в тридцать пудов держит, есть чем похвалиться, посрамила, попрала Гитлера, попрала антисемита маршала Жукова, глубоко посрамила начальника карантина Шилкопляса (это — в нашем лагере, не только заушил, но и постарался, удачно, метко, как верблюд, плюнул прямо в зенки сучьи этому гаду невыносимому, антисемиту позорному), попрала самого гражданина начальника комендантского ОЛПа Кошелева, антисемита, бросала на ковер (разумеется, на идеологический ковер) опасного Солженицына, империалиста, византийца до мозга костей, каким является всякий русский патриот (и Сахаров обвинял Солженицына в “религиозно-патриотическом романтизме”), накачал мускулы, литая ручка, да как крепко, предельно брутально, всамделишно, впечатлительно, чувствительно, громоподобно, с оскорбительным, победоносным смаком обалденно звезданул, гоп-доп, не вертухайся: — Подставляй другую щеку!