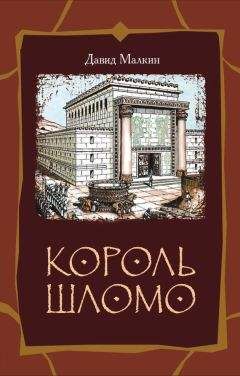Евгений Федоров - О Кузьме, о Лепине и завещании Сталина и не только
Я уже перестаю рыпаться, отдаюсь всецело Кузьме, отдаюсь магии доверительного разговора, магии доверительных интонаций, хотя еще по инерции отвечаю, гоню, порю что-то не то, что-то мелкое, тривиальное, поверхностное, пустое. Не находчив. Не берется верный след.
А, собственно говоря, в чем дело, о какой улике ты говоришь? На что намекаешь? Ничего такого я не вижу.
Да и что я мог сказать, оставаясь на почве либерального, просвещенного миропонимания? Продолжаю говорить, что это, мол, лишь досадное недоразумение, ляп, увлекся, забодай его, дурака, комар, Лепин, ну, не велика важность, бывает, со всяким может случиться, может быть мы столкнулись с невразумительной для нас природой интеллекта, воспитанного на Гегеле, на агрессивной немецкой зауми (“От Канта к Круппу” — эта горячая лекция была нам вовсе незнакома, а тем паче “От Лютера к Гитлеру”, современное, новенькое), на штудирование Гегеля ухлопал массу сил и времени, даже в лагере долбал, нет, нет! все люди из одного теста, такие же, как мы; скорее стряслось умственное помрачение, затмение, ку-ку, оказался во власти давящих мутных сил подсознания, какого-то ритуально-роевого архетипа, стряслось ку-ку, но в этом ку-ку, сказал бы Шекспир (“Гамлет”), есть система (какая? вопрос вопросов!). Сказалось поручение и пагубное, вредное влияние Достоевского, по существу мы имеем дело с философическим экспериментом в духе героев Достоевского, имеют место досадные издержки эксперимента, жизнь-то не литература, а он лихо, он же не от мира сего, князь Мышкин, все одно идиот, даром не проходит безумное увлечение Достоевским (Т. Манн: “Достоевский, но в меру”), наказуемо, сознание оказывается отягощено его образами и их трюками, вот он и пошел экспериментировать в духе Раскольникова, Ивана Карамазова, Кириллова, одержимых безумными императивами, безумными идеями. Герои Достоевского интеллектуально бесстрашны, ведут себя порою неподобающе, непристойно, скандально, что возмущало, не далеко ходить за примером, корректного, приличного, нормального Чехова (Гиппиус о Чехове: “И болезнь у него какая-то нормальная”), Ставрогин и не такое откалывал, еще и почище, читайте “Бесы”! У всех нас бывают заскоки, закидончики, причуды, наплывает, накатывает. Бзик, моча в голову ударила, и он нанес устремленный, свирепый, оскорбительный удар, расстарался, выложился, словно на свет Божий родился для этого подвига! Да, сухарь, да дуб, пусть кожа, как у слона, психика без изъяна, встанет вам на ногу, будет стоять, не заметит, не почувствует, что вам больно, чрезвычайно здоровый человек! простодушен, наивен, прост, даже примитивен, ну — дурил, случается, психическое расстройство, следствием всего этого глупейшая шутка. Прискорбно. Такие шутки нам не надобны. Соглашусь без оговорок. Но не было злого, коварного умысла, не было коварного подтекста, для меня Гриша вне всяких подозрений. Все мы немножко монстры, немного сумасшедшие, а зато Гриша шибко умный, интеллектуал первых ролей, ума палата, всезнайство, в загашник за словом не лезет, эрудицией кроет вопросов рой, вообще играет среди нас прогрессивную роль, сеет разумное, доброе, вечное, лошадиная память, все знает, ум переполнен, бездна эрудиции, неудержима воля к умствованию, к рефлексии, хлебом не корми, мощно, свободно, неодолимо взмывание круто вверх, титан духа (будем крепко помнить его знаменитое историческое письмо Сталину, надрывные интонации, оно было квалифицировано прокурором как очернительство армии, разбившей Гитлера), фигура сродни Прометею, Фаусту. Скоро о нем заговорит все прогрессивное человечество. Притом — необыкновенно скромен, смиренномудр. Да, смиренномудр!
Кузьма аж взвыл и выплеснул всполох, услыхав, что Лепин смиренномудр. О чем ты говоришь! Выбрось дурь из головы! Ты давно его знаешь, но так и не раскусил. Да у твоего Лепина сатанинская гордыня! И уши выше головы растут, высокомерен, нос воротит, непереносим!
4. Лебедь большого полетаВопросы Кузьмы еще долго тлели в моем сердце, зерно заронено, позже не раз я вспоминал этот содержательный, важный, значительный разговор. Сейчас хочется сказать, что Кузьма не был прав, когда так судил о Грише, но со временем его слова оказались пророческими. Гриша эволюционировал в неприличнейшую русофобию, к старости в нем развились те черты, которые раздражали и возмущали Кузьму. Пришло время и мне пришлось переубедить самого себя: смиренномудрия в Лепине нет! Читайте “Записки гадкого утенка”. В своих воспоминаниях Лепин отождествляет себя с “гадким утенком” сказки Андерсена, а гадкий утенок гадок по недоразумению и глупости тех, кто не понимает, кто за птица перед ним, а мы-то знаем, что это лебедь, знаем, это мифическая птица большого полета! да это одно из зооморфических воплощений Зевса, царя богов, подателя жизни, “вершитель судеб” — надпись на жертвеннике в Олимпии; в храме Зевса Олимпийского в Афинах над головой статуи Зевса находилось изображение трех великих прях, сестер мойр — Лахесис, дающая жребий, Клото прядущая судьбу, Атропос, неотвратимо приближающая конец и обрывающая нить жизни, и всякому было ясно, что “предопределение и судьба повинуются одному Зевсу”; под видом лебедя Зевс проникает к Леде, Леда рождает яйцо, яйцо символизирует черт-те что, все живое из яйца, вся космогония, из яйца рождается прекрасная Елена. В скромности не откажешь! давно чувствует себя в нелиняющем прекрасном оперении лебедя. Головка, правда, у нашего Лепина странно работает, почему-то до сих пор не ясно, почему в тот бесконечно печальный вечер глаза наши сделались малодушными, лживыми и в бок куда-то поползли, поползли и уползли, все мы стремглав рванули в разные стороны, петляли как зайцы. И не объяснишь ничего (представляете, ничего такого не помнит, все это выдумки злопыхателей, каяться не в чем, раз не помнит, нас призывает к покаянию! устроился!). Мы столкнулись с цельным человеком, у которого чистая солнечная совесть, на зависть искренен, чисты, незамутнены его чувства! на губах ангела хранителя всегда чистая, ясная улыбка, нет и заведомо не может быть никакой пены, дивное психическое здоровье такого человека и всегда занимаемые им прогрессивные позиции вызывают восхищение. Он (в отличие от Кузьмы, а что вы хотите, Кузьма пил, порабощен бутылкой) удался, справляет победу!
VII. Еще и еще штрихи к портрету великолепного Кузьмы
Где-то в первой половине шестидесятых, Кухня, “среди девушек нервных,/ В остром обществе дамском”, одним словом, “у наших”, очередной интеллектуальный пир во время очередной чумы, нет, пожалуй не на Кухне то было, а в другом месте, на пиру у Маши Житомирской, Кузьма читал свое, вечная кривенькая диалектика на лице, двусмысленная, блудливая улыбочка, жест категоричен, правит бал, стильна отмашка, навязчиво державный, царственный, угнетающий, высокомерный, квазиритуальный, гипнотизирующий жест, давил бульдозером на настроение компании, тиранствовал, держал всех в черном теле, не возразишь, не преступишь, властвовал, артистический, затейливый жест, извольте вскочить по его сигналу, пить стоя, когда отдан приказ, организовывал, утомлял, кровь всем портил, тиранствовал, магия, любил читать свое, ой, любил, “хлебушком” (“Рюмка была налита так полно, что “хлебушко” стекал со всех сторон на тарелку” — “хлеб очищенный”, “божественный”. — Т. Манн) не корми, большой артист, ораторские излишества, опасное амплуа, зависишь от настроя аудитории, заигрываешь с ней, сползаешь к блядскому предательству, “Лайм-лайта позорное пламя/ Его заклеймило чело” (Ахматова), за хвост да палкой. Церковь с подозрением смотрела на скоморохов, на скоморошество, божественный Платон изгнал имитаторов, лицедеев из идеального государства, заражающее, гипнотизирующее, непосредственное воздействие устного слова, “в начале было Слово”, устное, наверняка устное, “да будет Свет”! ой-ля-ля! душу раздирающее, магическое, демоническое, шаманское: Руки на меч! приказ, щелчок кнута, мы же, выдрессированные, натренированные, шелковые, вскакиваем с мест, кладем руки на воображаемый, романтический меч, последним кладет он свою длань и целует, таков тяжкий ритуал, а глаза пьянее водки, взвинченность, утрата стержня, мутная бесовщинка, непреходящий архетип российского зла, предвещавший печальную, скучную, беспросветную, русскую поездку в Петушки, эх, остановись! остановите, добрые люди! унять! унять! не остановишь, нет удержу, выдавал ларингитные, картавые коленца, курица снесла яйцо, кудахчет, Кузьма только что закончил “Уточку”, повадился, не отвадишь, читать ее во всех домах, слушали не раз, читал, как бог, а тут друг, кореш, подельник Красин…
(припомним для сущего порядка знаменитый, громкий, нас ошеломивший, эпохальный процесс над нашими дорогими и незабвенными диссидентами, славно шумели, Якир, Красин, гордость наша, слава наша, светлые личности, стоило постучать Александровскому по столу кулаком, взбодрил, потекли герои, “Петьки-забияки”, “ничто нас так не радует, как падение праведника и позор его” — Достоевский; важно, уместно и полезно будет отметить, диссидентом Кузьма никогда не был, не мог быть, притом отнюдь не потому, что диссидентство обернулось к нему Красиным (не будем повторять справедливое возражение М. Ремизовой против Лепина); в диссидентстве — сектантская узость, партийность, зашоренность, занудство, серость, скудость мысли, всякие там права человека, пошлое высокомерие и опять же, извиняюсь, с большим избытком пошлое чванство, а тут бьет ключом живая жизнь, аукнемся на этот раз с Пушкиным, не тем, который “Подумай, как смешно / с водой — молдавское вино”, которого Кузьма неточно в дневнике цитирует, что не существенно, а с поздним (говорят нам умные люди, что есть два Пушкина: ранний, “Гавриилиада”, и поздний, помудревший: Гершензон — “мудрость Пушкина”): И мало горя мне, свободно ли печать / Морочит олухов, иль чуткая цензура/ В журнальных замыслах стесняет балагура…”)