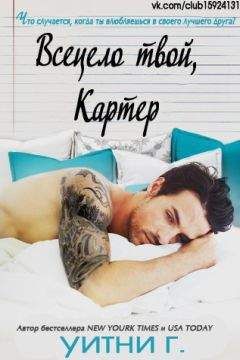Франсиско Сиониль-Хосе - Два рассказа
— Мы все упорно трудимся.
— Теперь наша рисовая рассада — лучшая в этих краях. Наши буйволы — самые сильные и выносливые. Мы знаем, как выращивать растения, как растить животных.
— А людей?
— Не смей так со мной разговаривать.
— Вы хотели, чтобы Ливлива стала моей женой.
— Ее отец влиятельный и...
— Такой же, как отец моей матери?
— Да, и все это мы делаем для славы дая, для их единства, для того, чтобы они лучше жили... Даже наши развлечения, наше ткачество, наше гончарное ремесло...
— У тага-лаудов лучше...
— Это еще надо доказать. А люди живы не одними горшками. Они сильны своей волей...
— А кто им дает волю, отец? Вожди?
— Да!
— Народ, отец, И эта воля появится тогда, когда народу будет чем гордиться. Не просто семенным рисом или буйволами. У тага-лаудов есть железные плуги. Нам нужен их металл, а им нужны наша соль, наша рыба, наше волокно и наше масло...
— Уверенность в своих силах и послушание — вот все, что нам нужно, — отрезал уло. — Прошло двадцать лет, и вот посмотри, какие я прорыл канавы для орошения, какой общинный дом выстроила твоя мать. Какой большой, какой красивый...
— И украшен он черепами наших врагов.
Уло пропустил его замечание мимо ушей.
— Она также помогала ткачам, продавала их изделия, изобретала новые рисунки. А возьми резчиков по дереву. Когда это было, чтобы изделия наших мастеров так ценились? И мы больше не будем зависеть от привоза чаш и тарелок из-за моря. Скоро мы зажжем наши собственные печи для обжига и будем тоже выделывать красивую посуду...
— У нас нет такой глины, отец, — возразил ему Даяв.
— Мы возьмем эту глину там, где она есть. Мы расширим нашу торговлю, наши границы. Ни море, ни горы нас не остановят.
Юноша слышал такие речи уже не раз, и теперь ему предстояло выслушать все это снова.
— Но для того, чтобы достичь этого, нам нужны вожди, умеющие предвидеть. — Голос уло зазвучал торжественно, он говорил о самом себе. — Хитрость, коварство, храбрость — всего этого недостаточно. Мудрость — вот единственное, что накапливается с годами в человеке, что учит людей, что позволяет постигать истину.
Но что такое истина? Даяв спрашивал себя много раз, но никак не мог найти ответа. Он верил только в то, что чувствовал и что видел — восход солнца, которому он всегда радовался, ветер в зарослях бамбука, запах свежесваренного риса, мясо, шипящее на огне. И еще Вайвайя — запах ее волос, ее тепло и нежность. Ему ни к чему становиться вождем, раз у него такая жена.
— Парбангон растет не по дням, а по часам, как побег бамбука, отец, — сказал вдруг Даяв, читая мысли отца.
— Да, и уже кое-чего нахватался у тебя.
— Должен же он уметь сочинять стихи и любить музыку. Будет настоящим мужчиной... Он будет вождем, отец, А я не могу. Но Вайвайя — ты по крайней мере мог бы быть подобрее к ней.
— Она — тага-лауд, — проговорил уло с горечью.
— Она — моя жена. И в ее ребенке, — он немного помедлил, — в нашем ребенке будет течь ваша кровь, отец!
Даяв наблюдал, как развивалась ее беременность. Первые три месяца Вайвайе все время хотелось апельсинов, хотелось цыплят, приготовленных так, как это делают тага-лауды, но когда они были готовы — их кровь спекалась с мясом — она не притрагивалась к блюду. Она плохо выглядела и стала очень беспокоиться о своем здоровье. Даяв приносил ей буйволиное молоко, разную рыбу и листья лекарственных растений. Он изумлялся чуду рождения жизни в ее чреве, чувствовал первое ее пробуждение. С сияющими глазами она сказала ему, что очень хочет, чтобы ее дитя стало по-настоящему счастливым, чтобы на него не легло пятно из-за матери.
Почему же она должна была умереть? О, Апо Лангит, о, Апо Дата, — все вы, кто направляет бег времени и судьбы людей, что плохого она совершила? Бессильный что-либо сделать, Даяв стоял и смотрел, как она истекает кровью, которую он не знал, как остановить. Ни один знахарь не согласился прийти к ним в дом. «Вайвайя! — крикнул он. — Ты родила сына!» Она взглянула на него, слабо улыбнулась, и глаза ее тихо-тихо закрылись.
Не было плача и причитаний, только Парбангон знал, что Вайвайи больше нет. В доме стало тихо, как прежде. Даяв заботливо обмыл тело и одел Вайвайю в платье лаудов, в котором она была, когда он увидел ее впервые. Он поцеловал покойную в губы, затем он завернул своего маленького сына и поспешил к отцовскому дому.
— У тебя родился внук, мать, — сообщил он Пинтас, встретившей его на лестнице. — А рабыня, которую вы все так не любили, не будет больше попусту расстраивать вас. Ее нет больше среди нас...
Лицо матери, сохранившее следы былой красоты, дрогнуло.
— В этом нет моей вины, сын мой. Это — судьба, — ответила она.
— Я никого не обвиняю, — сказал он, — даже судьбу. Но обещайте мне воспитать сына в любви к его матери, как я всегда любил вас...
— Почему ты так говоришь?
— Потому что у меня есть долг, который мне предстоит исполнить. И я не увижу, как он станет расти...
Только теперь смысл его намерения дошел до нее, и она покачнулась. Она издала пронзительный, звериный крик горя, услышав который из дома вышел уло. Мать Даява бросилась к нему с перекошенным от ужаса лицом:
— Муж мой, уло, останови его! Он не должен этого делать! Она же не была одной из нас!
— Что еще за глупости? — спросил отец. — Это мне назло? Все, что бы я ни делал, я делал для тебя, ты — моя кровь, и я хочу тебе добра, хочу, чтобы тебя почитали...
— Мне не надо почитания, отец.
— Оно и видно. Но теперь мне хочется только, чтобы ты остался в живых, несмотря на все твои проступки и изъяны.
— Традиция, отец. Мы же должны поддерживать ее. Это вы сами говорили.
— Не швыряй мне в лицо мои собственные слова.
— Но я тоже верю в традицию, отец. Вы этого никогда по-настоящему не понимали. Мы должны поддерживать традиции, потому что они не только для нас с вами — они для всех людей...
Уло замолчал.
— Сколько времени она прожила в бесчестье среди моего народа? Теперь я смогу воздать ей должные почести.
— Лучше живи в бесчестье! — крикнул уло. — Ради меня! Прошу тебя!
Даяв подошел и обнял отца, слезы катились у него по щекам. «Сын мой, сын мой», — шептал уло. И юноша почувствовал, как руки отца обхватили его. Так в последний раз они обняли друг друга.
Парбангон уже прошел обряд обрезания и начал строить свой собственный дом.
— Она легкая, — сказал ему Даяв, вспоминая, как переносил Вайвайю через реку. — Я понесу ее обратно на спине.
— Heт, так не делается, манонг[4], — в голосе Парбангона послышалась настойчивость. Младший брат был, конечно, прав.
— Ты еще недостаточно силен...
Парбангон покачал головой:
— Не в этом дело. Ты боишься за меня.
Даяв ничего не ответил. Он обрекал брата на жизнь, полную страданий, но Парбангон знал это и сам.
— Она была мне как сестра. Она готовила мне, одевала меня. А я ничего не сделал для нее. Позволь мне, брат, тоже оказать ей последние почести.
Даяв завернул Вайвайю в одеяло, которое тоже соткала она, ярко-красного цвета с синим узором ее народа, изображавшим луну, гору и дерево сквозь ветви бамбука. Оба конца шеста, на котором закрепили похоронные носилки, украсили гирляндами из цветов калачучи, сплетенными Парбангоном.
Они без особого труда добрались до реки к середине следующего дня. Даяв был восхищен силой и выносливостью мальчика. Немного отдохнув и наскоро перекусив, они развязали ремни своих сандалий и пошли по мелководью, осторожно переступая через обросшие мхом камни, чтобы не уронить в воду свою драгоценную ношу. Было еще совсем светло, когда они перебрались на другую сторону и направились к тому маленькому убежищу, откуда Даяв впервые увидел Вайвайю. Какой мир и покой царили здесь — на мгновение юноша словно наяву увидел перед собой девушку, склоненную над водой, спокойную и безмятежную, и острая, почти физическая боль пронзила его.
В сумерках они подошли к селению лаудов. Уже от самых границ за ними следили, и теперь многочисленные враги — женщины, дети, мужчины были всюду. В их взглядах читалось больше любопытства, чем ненависти.
Даяв отлично знал, куда идти — и потому, что сам наблюдал когда-то за этим селением, и потому, что Вайвайя много рассказывала ему о нем. Толпа местных женщин встретила их, когда они вступили на расчищенную поляну перед общинным домом лаудов, и начала дружно причитать громкими, высокими голосами. Слушая слова их плача: «Сестра, подруга, тебя больше нет с нами», Даяв не смог сдержать слез. Он видел перед собой неясные очертания большого строения с высокими столбами, украшенными замысловатой резьбой, с выступающими толстыми балками и — под самой стрехой травяной крыши — вереницу черепов своих соплеменников.
Огромная дверь отворилась, и по лестнице к ним сошел вождь лаудов. И Даяв, всегда подозревавший истину, хотя Вайвайя никогда не признавалась в этом, понял, что человек в высокой павлиньей шапке, на котором позванивали золотые браслеты, — ее отец. Он подставил плечо, помогая Даяву положить тело Вайвайи на деревянный помост, где обычно делались жертвоприношения. Потом заговорил дрожащим голосом: «Минуло уже два урожая, как мы потеряли ее. — И обернувшись к одной из пожилых женщин в толпе, крикнул: — Взгляни на свое сокровище, жена!»