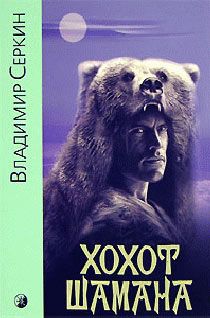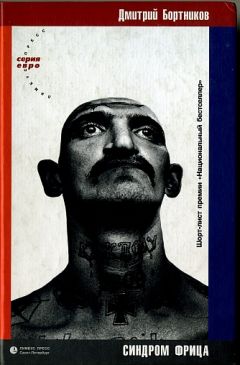Владимир Высоцкий - Роман о девочках
Но Саша почему-то вместо этого встал, взглянул на случайного своего собутыльника с сожалением и отошел. Больше он ничего не пел, загрустил даже, потом, должно быть, сильно напился. Он – пьющий, Кулешов, ох-ох-ох какой пьющий. Все это вспомнил Максим Григорьевич и его опять замутило.
– И кто меня, дурака, за язык тянул? Хотя и хрен с ним, что мне с ним детей крестить, – он даже вымученно улыбнулся, потому что вышла сальная шутка, если подумать про Кулешова и Тамарку.
Еще раз отправился Максим Григорьевич в туалет, и все повторилось сначала, только теперь заболела эта проклятая треть желудка. Когда он назад тому четыре года выписывался из госпиталя МВД, где оперировался, врач его, Герман Абрамович, предупредил его честно и по-мужски:
– Глядите! Будете пить – умрете, а так – года три гарантия. А он уже пьет запоем четвертый год и жив, если это можно так назвать. А Герману Абрамовичу говорит, что не пьет, хотя и умный и врач хороший.
А помрет Максим Григорьевич только года через три, как раз накануне свадьбы Тамаркиной с немцем. А сейчас он не помрет, если найдет, конечно, чего-нибудь спиртного.
Где же, однако, раздобыть тебе, Максим Григорьевич, на похмелку? Загляни-ка в дочерние старые сумочки! Заглянул? Нет ничего. Да откуда же быть у дочерей? Ирка с мужем – как копейка лишняя завелась, премия зятьева или сэкономленные – они ее сейчас же в сберкассу, на отпуск откладывают. Они – дочка с зятем – альпинизмом увлекаются. И ездят на все лето в Домбай, то в Баксан куда-то там в горы. Словом, лазят там по скалам. Особенно зять – Борис Климов – лазит. Лазит да ломается. Хоть и не насмерть, но сильно. В прошлом году два месяца лежал – привезли переломанного еще в середине отпуска. Ничего – оклемался и в этом году опять за свое. Так что нету у ирки денег, Максим Григорьевич, а у Тамарки и искать не стоит, эта сама у матери на метро берет, да у соседа покурить стреляет. Пойти, нешто, к соседу? Так занято-перезанято. Да и нет, вроде, его еще, соседа. Он где-то на испытаниях. Он горючим для ракет занимается. Серьезный такой дядя, хоть и молоденький. Уехал он недели две назад на этот Байканур. Он теперь часто туда ездит. Поедет, а через неделю в газетах: «Произведен очередной запуск… „Космос-1991“. Все нормально и т. д. «, И сосед возвращается веселый и довольный, и ссужает Максима Григорьевича, если, конечно, тот в запое. Но сейчас нету соседа, не приехал еще. Заглянуть разве в шкаф под простыни? Заглянул на всякий случай. Нету и там, потому что жена давно уже там зарплату не держит, перепрятала. И сидит Максим Григорьевич на диване, на своей, так сказать территории, потому что другая вся площадь квартиры не его, сидит и мучается жестоким похмельем – моральным из-за ордена и физическим из-за выпитого. Так бы и сидел он еще долго и бегал бы на кухню да в туалет, как вдруг зазвенела на лестничной клетке гитара, раздались веселые голоса и кто-то нахально длинным звонком позвонил в дверь и заорал: есть кто-нибудь? Отворяйте сейчас же! А то двери ломать будем! Голос показался Максиму Григорьевичу очень знакомым и он пошлепал открывать.
Глаза у него, хоть и налитые похмельной мутью, расширились, потому что на пороге стоял Колька Святенко, по кличке Коллега, собственной персоной, выпивший уже с утра, с гитарой и с каким-то еще хмырем, который прятал что-то за спиной и улыбался… И Колька лыбился, показывая уже четыре золотых зуба, и у хмыря золотых был полон рот, а у Кольки шрам на лбу свежий.
– А, Максим Григорьевич, – заорал Колька, как будто даже обрадовавшись. – Не помер еще? А мы к тебе с обыском! Вот и ордер, – тут дружок его извлек из-за спины бутылку коньяку. «Двин» – успел прочитать Максим Григорьевич, – «Хорошо живут, гады! «А Колька продолжал:
Я вот и понятых привел – одного правда. Знакомьтесь – звать Толик. Фамилию до времени называть не буду. А прозвище – Штилевой. Толик Штилевой! Прошу любить! Шмон мы проведем бесшумно да аккуратно, потому что ничего нам не надобно, кроме Тамарки! Максим Григорьевич, который хотел было дверь у них перед носом захлопнуть, при виде коньяка, однако, передумал и при виде же его сейчас же побежал блевать. Глаза его налились кровью, он как-то задрал голову и, не закрывши дверь, побежал снова в совмещенный санузел.
Дружески и понятливо переглянулись и вошли сами. Пока Максим Григорьевич орал, а потом умывался, раскупорили бутылку «Двина», взяли стопочки в шкафу и, когда вернулся хозяин – обессилевший и злой, – Колька уже протягивал ему полный стаканчик.
– Со свиданьицем, Максим Григ, поправляйтесь на здоровье, драгоценный наш.
Максим Григорьевич отказываться не стал, выпил, запил водичкой, подождал, прошла ли. И друзья подождали, молча и сочувственно глядя и желая, очень желая тоже, чтобы прошла. Она и прошла. Он, вернее, – коньяк. Максим Григорьевич выдохнул воздух и спросил:
– Ты чего с утра глаза налил и безобразишь на лестнице, уголовная твоя харя? – ругнул он Кольку, ругнул, однако, беззлобно, а так, чего на язык пришло.
– Так там написано, – пошутил Колька, – лестничная клетка – часть вашей квартиры, значит там можно петь, даже спать при желании. Давай по второй.
Выпили и по второй. Совсем отпустило Максима Григорьевича, и он проявил даже некоторый интерес к окружающему.
– Ты когда освободился?
– Да с месяца два уже!
– А где шманался, дурья твоя голова?
– Вербоваться хотел там же, под Карагандой, да передумал. Домой потянуло, да и дела появились, – Колька с толиком переглянулись и перемигнулись.
– Ну дела твои я, положим, знаю. Не дела они, а делишки – дела твои, да еще темные. В Москве-то тебе можно?
– Можно, можно, – успокоил Колька, – я по первому еще сроку, да и учитывая примерное мое поведение в местах заключения.
– Ну, это ты, положим, врешь! Знаю я твое примерное поведение! Максим Григорьевич выпил и третью.
– Знаю, своими же глазами видел!
Это была правда. Видел и знал Максим Григорьевич Колькино примерное поведение. Года три назад, когда путалась с ним Тамарка, ученица еще, и когда мать пришла зареванная из школы, попросила она:
– Ты ведь отец, какой-никакой, а отец. Пойди, поговори с ним!
– Максиму Григорьевичу хоть и плевать было, с кем дочь и что, но все же пошел он и с Николаем говорил. Говорил так:
– Ты это, Николай, девку оставь. Ты человек пустой да рисковый. Тюрьма по тебе плачет. А она еще школьница, мать вон к директору вызывали.
Колька тогда только рассмеялся ему в лицо и обозвал разно – мусором, псом и всяко, а потом сказал:
– Ты не в свое дело не суйся! Какой ты ей отец. Знаю я какой ты отец. Рассказывали да и сам вижу. А матери скажи, что томку я не обижаю и другой никто не обидит. Вся шпана, ее завидев, в подворотни прячется и здоровается уважительно. А если бы не я – лезли бы и лапали. Та что со мной ей лучше, – уверенно закончил Николай.
Максим Григорьевич и ушел ни с чем, только дома ругал Тамарку всякими оскорбительными прозвищами и мать ими же ругал, и сестру с мужем, и целый свет.
– Пропадите вы все – вся ваша семья поганая да блядская. Не путайте меня в свои дела. Я с уголовниками больше разговаривать не буду. Я б с ним в другом месте поговорил. Но, ничего, – может быть еще и придется.
И накаркал, ведь, старый ворон. Забрали Николая за пьяную какую-то драку с поножовщиной да с оскорблением власти. И по странной случайности все предварительное заключение просидел тот в Бутырке, в камере, за которой Максим Григорьевич тогда следил. Он как сейчас помнит, Максим Григорьевич, – входит он, как всегда, медленно и молча в камеру и встает ему навстречу Николай Святенко, по кличке Коллега, – уголовник и гитарист, наглец и соблазнитель его собственной, хотя и нелюбимой, дочери. И совсем не загрустил он от того, что грозило ему от 2 до 7, по статье 206 (б) уголовного кодекса, а даже как будто наоборот, чувствовал себя спокойнее и лучше.
– А-а, Максим Григорьевич – ненаглядный тесть. Прости, кандидат только в тести. Вот это встреча! Знал бы ты, как я рад, Максим Григорьевич. Ты ведь и принесешь чего-нибудь, чего нельзя, – подмаргивал ему Колька, – по блату да по родственному, и послабление будет отеческое мне и корешам моим. Верно ведь, товарищ Полуэктов?
Максим Григорьевич, как мог, тогда Кольку выматерил, выхлопотал ему карцер, а при другом разе сказал:
– Ты меня, ублюдок, лучше не задирай. Я тебе такое послабление сделаю! Всю жизнь твою поганую, лагерную помнить будешь. Николай промолчал тогда, после карцера, к тому же у него на завтра суд назначен был. Он попросил только:
– Тамаре привет передайте. И все. И пусть на суд не идет. Максим Григорьевич ничего передавать, конечно, не стал. А на другой день Кольку увезли и больше он его не видал и не вспоминал даже. И вдруг – вот он, как снег на голову, с коньяком да с другом, как ни в чем не бывало – попивает и напевает:
– Снег скрипел подо мной, поскрипев затихал, И сугробы прилечь завлекали.