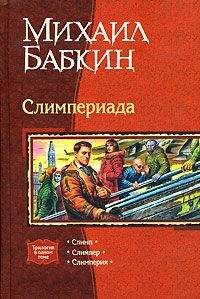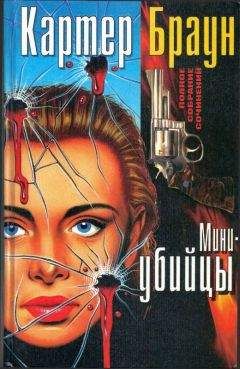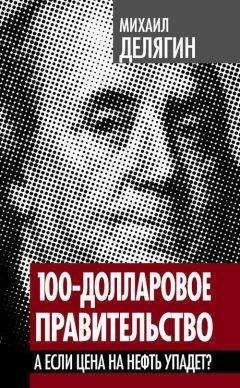Михаил Барановский - Последний еврей
– И кем он оказался, в конце концов?
– Ни тем и ни другим. Я попал не в ту смену и, как всегда, плохо подумал о людях.
* * *Анна и Таня смотрят на Илью, чуть отстранившись, как художник на только что написанную картину, когда краски еще не просохли, и есть возможность что-то подправить несколькими завершающими мазками.
– По-моему, очень хорошо. Спасибо, Танюша! – говорит Анна.
– Мне тоже нравится, – удовлетворенно отмечает Таня.
– А меня что, никто даже и не спросит? – возмущается Илья, вставая из кресла. – По-моему, вы меня очень коротко подстригли. Это ж мне теперь до конца жизни отрастать.
– Все. Убегаем, у нас еще куча дел. Танечка, пока, дорогая.
– Единственное, что меня утешает, – обиженно продолжает Илья, – так это то, что волосы еще некоторое время растут после смерти. До свидания.
Когда Илья уже направляется к выходу, Таня задерживает Анну и шепчет ей на ухо:
– С тебя бутылка – за фиктивного.
– Чувствую, придется ящик покупать, – обреченно констатирует Анна.
– Я ведь его толком и не видела. Мелькал во дворе, а при ближайшем рассмотрении… Правда, очень милый, хоть и еврей.
* * *Илья и Анна в тесной примерочной кабинке дорогого магазина. На Илье – шикарный костюм.
– Как тебе? – Анна устало садится на единственный стул в примерочной.
– Не знаю. Я не умею выбирать и покупать вещи, – говорит Илья, изучая себя в зеркале.
– Ты же Близнец?
– Да, – Илья садится на пол.
– Я тоже. Это болезнь такая у Близнецов. Я недавно пошла покупать себе платье открытое, на лето, а купила дубленку. И так всегда.
– Точно-точно. У меня сосед – тоже, наверное, Близнец – он как-то пошел покупать дубленку…
– А купил трусы? – предполагает Анна.
– Да нет. Он вообще ничего не купил. Это давно было, еще при Совке. Как-то просыпается он утром, с похмелья, а к нам во двор пиво в бочке привозят. И вот тоже привезли, значит, пиво. Мужики стоят на морозе, пиво пьют, паром дышат. Сосед проверил карманы, понял, что до него их уже проверила жена… А у нее просить – безнадега, ни за что не даст. Тут раздается телефонный звонок. Он снимает трубку, а пальцем нажимает рычажок и говорит громко, чтобы слышно было жене аж на кухне: «Привет, Илья! Ух, ты! Да! Конечно! Так это ж даром. Сейчас! Сейчас!» И кладет трубку. Жена кричит из кухни: «Кто звонил?» Он говорит: «Илья, сосед. Ему мама по случаю дубленку достала, а ему велика. И стоит, главное, недорого. Может, взять?» Жена: «Раз недорого – надо брать». Дает ему жена денег, и он уходит как бы ко мне.
– Я могу вам чем-нибудь помочь? – прерывает Илью голос менеджера из-за ширмы.
– Спасибо. Вряд ли. Мы скоро, – раздраженно отвечает Анна.
Илья продолжает:
– День его нет, два, три… Звонок в дверь. Жена открывает. Тот, на пороге, мягко говоря, сильно пьяный, в старом, грязном пальто, еле ворочает языком: «Лидочка, рукава… это… того… коротковаты…»
– Ты думаешь, он Близнец? Ты с ним дубленку покупал?
– Ну, не все три дня, – оправдывается Илья.
– Так. Костюм тебе как раз. И рукава, по счастью, не коротковаты. Что туфли?
– Я как-то, лет пять назад, купил импортные туфли – точь-в-точь, как эти, стоили сущие копейки. А эти почем?
– Не важно, – говорит Анна. – Тебе нравятся?
– Ну, скажи, сколько стоят?
– Сто двадцать три доллара.
– Мамочка! – Илья вскакивает с пола, как ужаленный. – Ну да, точно, те были для покойников. На коробке, помню, было написано: «На хладную ногу». Думал, развалятся через день, а ничего – сезон проносил. В них, правда, полгорода ходило. Зомби такие. Не важно ж было, что тапочки покойницкие, важно, что импортные.
– Ну что, туфли берем?
– За сто двадцать три доллара? Да бог с тобой! – Илья довольно смотрит на себя в зеркало. – Я же в них по земле ходить буду.
– Понятно, значит, берем.
– Послушай, у меня ж не день рождения. Да даже если бы и день рождения, мне таких подарков в жизни никто не дарил.
– Ну, как ты не понимаешь, – сожалеет Анна, – это же я не тебе, а себе подарок делаю. У меня в субботу презентация мужа. Скажи, вы в детстве строили халабуды – такие домики из разных ящиков, картонок?..
– Да, – улыбаясь, говорит Илья.
– В них было так же уютно, как в этой кабинке.
* * *Бывают дни, когда тебе так плохо, что думаешь о смерти, как о спасении и понимаешь, что смерть – не спасение. И от этого становится еще хуже.
Когда у Ильи наблюдается какой-нибудь жизненный катаклизм, он уходит в себя и подолгу не возвращается. Слушает внутренний голос. Вот и в этот раз прислушался, но ничего, кроме мата, не услышал.
Поздним вечером у себя в квартире Илья открывает холодильник, в морозилке обнаруживает два окоченевших трупика сосисок, а также початую бутылку водки и трехлитровую банку с солеными огурцами. Огурцы и водку он достает и ставит на стол. Тут же лежит толстая старая папка, на которой фломастером написано: «ЖИЗНЬ – ГОВНО». Илья открывает папку, наливает в стакан водку, залезает рукой в банку с огурцами, выпивает, закусывает и читает рукопись.
Внезапно он встает, идет в комнату, открывает шкаф, достает оттуда купленные Анной вещи. Илья одевается: рубашка, галстук, костюм, туфли. Смотрит на себя в зеркало и остается доволен увиденным. При полном параде он направляется в кухню, убирает все со стола, оставляя только рукопись и бутылку водки, меняет стакан на рюмку. Из какого-то шкафа достает свечку и большой металлический поднос. Он зажигает свечу и гасит свет. Стоя за столом, Илья наливает, выпивает и, просматривая страницу за страницей, сжигает рукопись на подносе.
Звонит телефон.
Потянувшись за очередной страницей, он попадает кончиком галстука в пламя свечи. Галстук вспыхивает. Илья тушит его, хлопая руками себя по животу. После борьбы с огнем руки у него черные, бывшая некогда белой рубашка безнадежно испачкана. Илья в изнеможении садится за стол, закрыв лицо руками. Похоже, он плачет.
Звонит телефон.
Посреди кромешной тьмы раздается звонок на этот раз в дверь. Слышен шум споткнувшегося и упавшего тела, затем шаги. Дверь открывается. На лестничной площадке стоит Анна. Она в роскошном вечернем платье. Илья щурится от внезапного яркого света. Лицо его перепачкано копотью, на шее обгоревший огрызок дорогого галстука, рубашка в черных пятнах.
– Что случилось? – испуганно спрашивает Анна.
Илья молча пропускает ее в комнату.
– Почему ты молчишь? Скажи что-нибудь? Что с тобой?
– Я не знаю, – хрипло отвечает Илья.
– Что значит «не знаю»?
– Мы уже опоздали на презентацию мужа? – с видом провинившегося школьника спрашивает Илья.
– Ты можешь объяснить, что произошло? – Анна включает свет и садится на краешек стула.
– Я загорелся.
– Как это?
– Вспыхнул.
– Где твоя мама?
– Уехала отмечать День Победы.
– Значит, все живы. Это уже хорошо, – облегченно вздыхает Анна. – Что здесь горело?
Анна обследует квартиру. Натыкается на папку «Жизнь – говно» и на поднос, в котором дышит от движения воздуха горка пепла.
– Ты сжег пьесу?
– Мне тридцать шесть лет! – не замечая вопроса, трагическим голосом произносит он.
Анна садится на пол напротив Ильи:
– Я знаю. Ну, и что?
– Я недавно сказал маме: «Мама, мне тридцать шесть лет». У меня как будто оборвалось что-то внутри.
– Что там могло оборваться?
– Я вдруг понял, что мне тридцать шесть лет. А живу, как мальчишка. Когда тебе тридцать шесть, ты как-то по-другому должен себя вести… С чувством собственного достоинства. Когда я разговариваю с кем-нибудь, кроме мамы, все время хочется почесать ухо или нос. Не потому что чешется, а чтобы спрятаться от какой-то неловкости. И еще эти просительные интонации, даже когда я никого ни о чем не прошу. Я не могу от них избавиться. Заискивающие позы, мимика… Все это не достойно тридцатишестилетнего мужчины. У меня ничего нет: ни жены, ни детей, ни квартиры, ни постоянной работы, ни денег. Даже друзья все уехали. Я как будто не живу. Я не оставляю никаких следов. Как привидение.
– Жизнь – говно?
– Я не смог придумать другого названия.
– Почему ты до сих пор не уехал?
– Наверное, из-за лени. Как подумаю: продавать квартиру, отправлять багаж, маму, оформлять кучу документов. А потом устраиваться, учить язык, искать работу… Мне лень всем этим заниматься, и во имя чего? Как в том анекдоте. «Доктор, я жить буду?» – «А смысл?» Если здесь не получилось, то и там не получится.
– Кто сказал, что здесь не получилось?
– Это же настолько очевидно, что даже не нужно произносить вслух… Я думал – я писатель. Я ушел из газеты, чтобы меня ничего не отвлекало от творчества. Я писал, отправлял рассказы в журналы, в издательства. И ждал славы. Или как минимум гонораров… Только однажды мою повесть начала публиковать одна газета. Они печатали ее по главкам из номера в номер. Где-то на ее середине в газету пришел новый редактор, который не хотел печатать мою повесть. В очередном номере он дал очередную главу. Она заканчивалась словами: «Тимофей накинул на плечи полушубок и вышел во двор». Редактор дописал: «С тех пор его никто не видел». На этом повесть закончилась. И все – как отрезало. Где-то я читал о том, что самое счастливое мгновение счастливого человека – это когда он засыпает, а самое несчастное мгновение несчастного человека – когда он пробуждается. Каждое утро я просыпаюсь и с ужасом думаю о том, что сегодня будет такой же бездарный день, как вчера. Просто сейчас я понял это как-то… Как-то очень отчетливо.