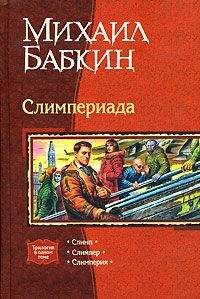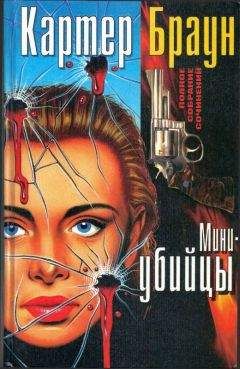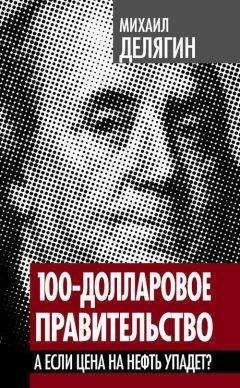Михаил Барановский - Последний еврей
– Так почему ты развелся?
– Она все время задевала головой абажур.
– Подожди, ты развелся, потому что она задевала головой абажур? – удивляется Анна.
– Конечно. А что в этом удивительного? Я потом дал себе слово, что женюсь на той, что ни разу его не заденет. Ты – единственная из всех не задела. И я на тебе женился.
– Да, ты человек слова. Может, надо было просто люстру повыше повесить, женился бы раньше?
– А я никуда не спешу. Вот это ужасно вкусно, – показывает Илья на блюдо. – Во-первых, выше нельзя – потолки два пятьдесят. Во-вторых, не в этом дело. Дело в этих мелочах: задела абажур, громко хлопнула дверью… Все это очень показательные мелочи. Человек состоит из тысячи мелочей, а не из чего-то большого и целого, как Кинг-Конг. Чехов говорил, что о человеке можно судить уже по тому, как он заклеивает конверт.
– А как она заклеивала конверты?
– Будь здорова! – Илья поднимает очередную рюмку. – Не помню. Зато везде была разбросана ее обувь. Одна тапка могла валяться в столовой, а другая, например, в ванной. Я до сих пор не понимаю, как это могло происходить. Иногда мне казалось, что я живу с сороконожкой. Ужас!
– И не говори. Но ты же почему-то на ней женился?
– Из жалости. Я решил: если не я, то кто же?
– А развелся ты не из жалости?
– Из жалости. Только женился из жалости к ней, а развелся из жалости к себе. Ты почти совсем не пьешь.
– Я за рулем.
– Но у тебя же там есть тормоза?
– А у тебя?
– Как говорит один мой знакомый водитель: «Тормоза придумали трусы».
– Знаем мы этих водителей. Верни мне, пожалуйста, кольцо.
– Какое кольцо?
– Вот это кольцо.
– Вот это, которое символ любви и супружеской верности? – уточняет Илья.
– Да.
– Не люблю символы. Не снимается.
– Ну, постарайся.
– Нет, надо с мылом.
– Ладно, в другой раз. Поехали?
– Куда?
– К маме.
– Хорошо. Давай за маму! И поехали. У тебя мама в Германии? – вливает Илья остатки водки из графина в рюмку.
– Да.
– Чтоб они были здоровы! – выпивает. – Все-все-все. Кажется, нам пора?
Илья встает из-за стола, что дается ему с большим трудом, и направляется вслед за Анной к ее машине:
– Минуту! Я прошу прощенья, но мы, по-моему, не заплатили.
– Да.
– Что значит «да»? Это не хорошо. Если у тебя нет денег, то я… я…
– Успокойся, это мое кафе, – говорит Анна.
– Что значит твое кафе?
– Это значит, что я его владелица.
– Выходит, ты можешь хоть каждый день совершенно бесплатно…
– Ну, бесплатно – не бесплатно… Какая разница, из какого кармана доставать деньги?
Илья, покачиваясь, лезет в карман своих брюк, выворачивает его наизнанку, затем то же самое проделывает с другим карманом:
– Ты права – нет никакой разницы! – убеждается Илья. – Ты мудрая. Я рад, что на тебе женился.
– Садись в машину, – приказным тоном говорит Анна.
Илья с трудом забирается в автомобиль:
– Можно ехать!
– Спасибо. Завтра я улетаю в Москву, возьму анкеты в посольстве и в тот же день постараюсь вернуться. Приеду, и будем готовить документы.
– Документы, анкеты, расписки, объяснительные – как я все это люблю. Однажды в армии я написал объяснительную, за которую меня расстреляли.
– Ты не преувеличиваешь?
– Нет, – заплетающимся языком, позевывая, иногда засыпая, но тут же просыпаясь, он рассказывает Анне одну из своих самых любимых историй. – Я написал в объяснительной: «Я, Мордисон Илья Борисович, отсутствовал в казарме, так как обнаружил, что какой-то подлец бросил тухлое яйцо в портрет лица Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, который висит на плацу. Когда я пришел на плац, чтобы стереть яйцо с лица Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, то решил, что не следует стирать вышеупомянутое тухлое яйцо с вышеупомянутого высокопоставленного лица при большом скоплении народа. Поэтому, дождавшись темного времени суток, я снова пришел на плац, чтобы стереть на плацу яйцо с лица Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Но было темно, и я обнаружил, что не могу отличить яйцо от лица Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Поэтому я вынужден был дождаться рассвета, чтобы удалить это самое тухлое яйцо с этого самого лица Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, в виду чего…
Илья засыпает. На повороте его заносит к Анне на плечо, она пытается одной рукой вернуть его в исходное положение, но это ей не удается. Смирившись, Анна ведет машину по ночному городу, а на ее плече, сладко пуская слюну, сопит Илья.
* * *Илья сидит на кухне и вдохновенно выстукивает что-то на пишущей машинке. Входит Рахиль Иосифовна:
– Не нравится мне все это.
– Что? – не отрываясь от машинки, спрашивает Илья.
– Перестань стучать! Женитьба мне эта не нравится.
– Здрасьте!
– До свидания. Пришел пьяный, поздно.
– Мама, мне тридцать шесть лет.
– Азохен вей! Ему тридцать шесть лет! У меня что, от этого понижается давление? У меня от этого восстанавливаются нервные клетки? – вскипает Рахиль Иосифовна.
– Что ты волнуешься?
– Ты ходишь по ночам. Тебе просто могут набить морду.
– У меня лицо.
– Ты думаешь, они будут разбираться?
– Даже если это будет лицо еврейской национальности, все равно набьют жидовскую морду.
– Кошмар.
– Конечно кошмар.
– Мама, мне тридцать шесть лет! И что?
Такое внезапное прозрение характерно для утреннего похмельного синдрома. Вместе с ним возникает чувство вины и стремление покаяться. Не то чтобы за всю свою несуразную жизнь, а хотя бы за вчерашнее. Извиняться «за вчерашнее» естественно для россиянина и почти физиологично, как желание опохмелиться. Извиняться «за вчерашнее» входит в правило хорошего тона, как «спасибо, все было очень вкусно».
* * *– Простите, как мне увидеть Анну Сергеевну? – в некоторой нерешительности обращается Илья к официанту. Тот со скепсисом всматривается в Илью, подозревая в нем представителя фискальных органов или просто попрошайку:
– Вы по какому вопросу?
– По личному.
– Вы договаривались о встрече? – допытывается официант.
– Да, – раздосадованно лжет Илья.
– Как вас представить?
– Скажите, муж пришел.
Официант, преисполненный сомнений, исчезает в глубинах служебных помещений. Вскоре появляется Анна:
– Привет! Очень хорошо, что ты пришел. Я собиралась позвонить, но ты меня опередил. Я только сегодня прилетела, привезла анкеты и длинный список документов, которые нам надо будет собирать.
– А я принес символ любви и супружеской верности. – Илья протягивает Анне кольцо. – Снял без мыла.
– Надень, пожалуйста, – говорит она.
– С какой стати?
– Ты есть не хочешь?
– Нет, спасибо. Я пришел извиниться за вчерашнее.
– Не за что извиняться. Так ты есть не хочешь?
– У нас был один родственник, – начинает Илья очередную историю, – когда мы к нему приходили в гости, он спрашивал: «Чаю не хотите?» Маме всегда казалось, что вопрос специально задается таким образом, чтобы на него можно было дать только отрицательный ответ: «Чаю не хотите?» – «Конечно нет».
– Как я должна спросить: «Есть хочешь?» Так?
– Так. Но я все равно не хочу. Спасибо. Это я так, к слову.
– Когда я приезжаю к маме в Германию, один ее знакомый немец Бодо приглашает нас куда-нибудь, на экскурсию и берет с собой всегда четыре бутерброда. Когда, присев где-нибудь на скамеечке, мы съедаем каждый по своему бутерброду, один, естественно, остается. Тогда Бодо спрашивает: «Кто еще будет бутерброд?» Мы, само собой, отказываемся, а Бодо говорит: «А я буду»… И съедает его.
– Очень предусмотрительный Бодо.
– Да. Ну, давай, хоть кофе выпьем. У меня к тебе дело, вернее – просьба. Игорь, – обращается Анна к официанту, – нам два кофе. Так вот. У Нины в субботу день рождения. Она, гадость такая, всем разболтала, что я замуж вышла… За драматурга. В общем, я хочу тебя попросить пойти со мной. А то как-то неудобно получится…
– Да запросто, – испытывая явное облегчение, соглашается Илья. – Я-то думал, ты меня попросишь что-нибудь тяжелое потаскать или с каким-нибудь парализованным родственником недельку посидеть.
– Просто это не входило в наш договор…
– Да брось. Никаких проблем.
– Я хочу познакомить тебя со своим парикмахером. Хотя, наверное, ты ее знаешь, она живет с тобой в одном доме.
– Надо же! Как мир тесен!
– Ты даже не представляешь, насколько он тесен! – говорит Анна.
– А зачем мне твой парикмахер?
– Это очень хороший парикмахер.
– У меня уже есть парикмахер, – настаивает Илья. – Я недавно с ним познакомился. Мне сказали пойти в такую-то парикмахерскую, там два мастера и оба очень хорошие. Правда, один наркоман, а другой гомосексуалист. Я пошел. Он меня стрижет, а я думаю: какой из них? Когда он ко мне как-то так уж сильно прижимался, я считал, что он педик. Но временами он был очень медлительным, и мне казалось, что он все-таки наркоман.