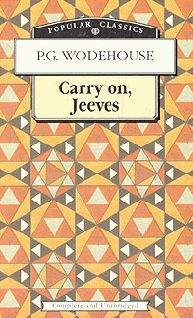Н. Денисов - В чистом поле: очерки, рассказы, стихи
Иду как-то мимо одной нашей литературной издательской конторы. Слышу знакомые боевые голоса. Захожу. Главные действующие лица – Ермаков и поэт Толя Кукарский. За столом при телефоне литчиновник сидит, сушки грызет, чайком пахучим прихлебывает. Но все равно литчиновник недоволен: хмельные, мешаете, мол, процессу работы! А Ермаков этак язвительно, с издёвочкой, лепит тому в лицо, в бороденку: «Травки пьешь, Сережа, корешки жуешь, долго проживешь, всех нас похоронишь!»
Литчиновник, а такие тоже нужны при писательской организации, надо кому-то быть и на подхвате: что-то отнести-принести, билеты на самолет иногородним гостям купить, врученную на празднике хлеб-соль с пользой определить, чтоб не засыхала задаром, -так вот, со словами «сейчас я вас сдам в милицию», набирает это самое 02. И тут в руках поэта Кукарского соколом взлетает откуда-то взявшаяся балалайка – Толя игрывал на ней бывало! – и опускается на спину обидчика. И – вдребезги!
Ушли мы.
Вскоре не стало на земле Ермакова, а через четыре года и Кукарского – забубённых витязей. А тот литчиновник, действительно, еще очень долго здравствовал, мороча головы литературной и прочей публике, жуя целебные травки и корешки, многих пережил.
Да, жизнь наша…
Хоронили Ермакова в жаркий июльский день 1974 года. Писательская организация готовилась к приему многочисленных гостей – участников Всесоюзных Дней литературы в Тюменской области. Приезжали и прилетали они через неделю. Ответственный секретарь организации Константин Лагунов был занят по горло. Гак что все хлопоты по похоронам пали, в основном, на литературный актив. Кто-то взаимодействовал с семьей, кто-то с ритуальной конторой. У меня был на выходе номер «Тюмени литературной», готовился запустить его в типографию. И я пришел к парторгу и критику Виталию Клепикову, мы вместе написали некролог «Памяти товарища», успев поставить его в номер.
Еще Борис Галязимов связался с идеологическим отделом обкома партии, спросил: «Как хоронить будем Ивана Михайловича Ермакова?» Там ответили: «Похоронить как всех трудящихся хоронят!» Нас этот ответ немало покоробил: «Разве ж так можно, знаменитый же писатель!» Да. И такое печальное событие в организации – со дня её создания – было первым…
«Как всех трудящихся?» То есть, из квартиры, из дома? С четвертого этажа, над магазином «Родничок». Там ведь и не развернуться с гробом на узких и крутых лестничных пролетах. И поскольку ритуальных залов в Тюмени еще не было, хоронить решили – из старенького двухэтажного дома, где по улице Ванцетти располагалось писательское бюро пропаганды.
Прощалась с писателем масса народа. Литераторы, журналисты, казанские земляки и родственники, незнакомые простые люди.
Над кленами и тополями летали стрекозы. Куры из хозяйских двориков ходили с разинутыми клювами. Жаркий день сморил и петушиное племя, молчали, словно тоже блюли траур по хорошему человеку.
Вся травяная, малоезженая улочка была заполнена народом. Из обкома (заступник тюменских писателей Щербина работал уже в Москве) пришел один только инструктор отдела пропаганды Лисовский…
Позднее горькое, печальное – вылилось у меня в строки:
…А умру, вы в обком не ходите,
Оградите от лишних помех,
В чистом поле меня схороните,
Где хоронят трудящихся всех.
Там и лягу в глухой обороне,
Там додумаю думу свою –
Ту, что я на земле проворонил,
А порою топил во хмелю.
А подступят бесовские хари,
С ними я разочтусь как-нибудь.
В одиночку, вслепую нашарю
В небеса предназначенный путь.
Снова будут дороги крутые,
И в конце, как простой пилигрим,
Постучусь во врата золотые:
«Слава Богу, добрался к своим…»
И все же закончу воспоминание-повествование о Ермакове его победоносными, жизнеутверждающими строчками из сказа: «Проснешься в рассветный, предутренний час, и сразу же завладевает слухом твоим исполненная победительного благовеста, жизнерадостной жажды битвы, разбойная, дерзновенная петушиная песнь.
Ох и поют кумовья! Под звезды. В миры!»
САЗОНОВ И ПАРОВОЗ ЧЕРЕПАНОВЫХ
Геннадий Сазонов был человек и писатель уникальный, от природы одаренный всячески, но сосредоточенный на своем, хорошо освоенном. По профессии он был геолог-рудник. И она, профессия геолога, была его жизнью, сутью и мерилом человеческих качеств. Он мог увлекательно рассказывать «непросвещенным» геологические истории, байки, были и небылицы. Отдал он своему звонкому делу около двух десятков лет, ежегодно, по весне, отправляясь начальником геологической партии в поле, то есть в горы Полярного и Приполярного Урала. В Тюмень возвращался поздней осенью, при камушках в рюкзаке для исследовательской лаборатории, полный впечатлений, литературных замыслов, с записями в блокнотах, сделанными у походных костров, посвежевший, бодрый, нацеленный на зимний литературный труд.
В последние годы жизни, когда Сазонов перешел на «вольные хлеба», появилась в нем осанистость, житейская основательность, унаследованная от крестьянских родовых корней. Он по происхождению был волгарем, из Саратовских краев. Там же окончил университет, приехал по распределению в Тюмень – еще на заре ее будущей нефтяной славы. Я порой, часто общаясь с Геннадием Кузьмичом, открыто и скрыто сожалел, что он оставил геологию, которая в те уже далекие годы окрашивала его ореолом романтизма и некоей исключительности.
Мне всегда нравились люди пристрастные и увлеченные не только «голой» литературой, а и тем делом, которое становилось для пишущего его основой, жизненной твердью.
Вот и сейчас видится мне ранний зимний вечерок. В молочном свете редких фонарей тюменской улицы Республики нежно падают снежные хлопья, какие-то мягкие, ласковые. И сам вечер, не то декабрьский, не то январский, стоит приветливый, раздумчивый. Мы неторопливо идем с поэтом Володей Нечволодой, болтаем о разном, в основе – о стихотворном. Редкие прохожие. И вот из полумглы, облепленный, как и мы, снегом, в демисезонном пальтеце, в меховой шапке, при бородке возникает бодро шагающий человек. «Это Гена Сазонов! – толкает меня легонько в бок Володя. – Помнишь, я тебе говорил, что он талантливую книжку издал «Привет, старина!»
Мы знакомимся. Геннадий тянет нас обоих «куда-то пойти, посидеть за рюмкой чая», заходим в «неудачное» кафе, потом, отоварившись тем и тем в продмаге, оказываемся в полупустой однокомнатной квартире-хрущевке Сазонова, на улице Энергетиков, где единственная примечательность, имущество – книги. Много книг на самодельных стеллажах…
Летом, как сказано, Сазонов исчезал из поля зрения, уходя в свое геологическое поле. Партия его базировалась в далеком Саранпауле. В его окрестностях в навигацию 1967 года я ходил матросом на речном пассажирском теплоходе «Петр Шлеев», курсировавшем, в основном, по Северной Сосьве, и я рассчитывал после зимнего знакомства на встречу с Сазоновым. Причаливали иногда и в этом поселке, беря на борт пассажиров. На береговом песочке можно было отыскать камешки граненого природой хрусталя, но люди-поисковики бродили далеко в синих и отдаленных горах, обитая в палатках, согреваясь у походных жарких костров…
Другие моменты общений с Сазоновым из поры, когда он уже стал членом Союза писателей и бессменно председательствовал на семинарах молодых прозаиков. Начинающие и уже начавшие запросто приходили к нему и домой, приносили рукописи, просили «поглядеть». Свои отзывы он писал мелким разборчивым почерком, подробно анализировал, давал советы, отмечал наиболее удачные места в рукописи. Зачастую сама рецензия-отзыв получалась у него едва ль не в полтора-два раза объемнее анализируемого. Я как-то заметил ему об этом, он остро глянул на меня, усмехнулся в черную бородку, ничего не сказал.
Показывал ему и я свою повесть об арктическом морском перегоне плавучей электростанции «Северное сияние-04», в котором участвовал в качестве корабельного кока. «Дело» было производственное и живое, как говорится, а повесть «Арктический экзамен» я делал художественную, чтоб «развязать себе руки» для вымысла и фантазии.
«Вот ты смотри, – говорил Сазонов, – ваше судно стоит на якоре, штормит, ветер заполошный… Ты упоминаешь про чаек, что с трудом летят навстречу шторму. А ты посади хоть одну уставшую чайку на мачту или на рею. Расскажи и покажи, как она садится, голову в перья втягивает, словом, дай картину!» В чем-то соглашался я, в чем-то возражал, мол, излишняя подробность, цветистость – не мой стиль и тому подобное. Так-то оно так, но и я понимал, что Геннадий говорил про поэтическую деталь, которой и сам он мастерски пользовался и знал в ней толк…
Еще мы ездили на выступления по командировкам бюро пропаганды. Как многие из пишущих, кто владел и устным словом. Это был, конечно, неплохой приварок к тому небольшому гонорару, что получали за изданные книги, за журнальные и газетные публикации.