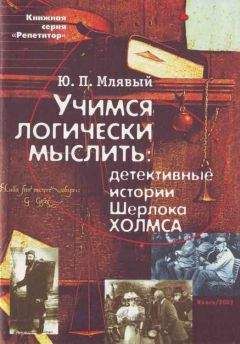Отто Штайгер - Избранное
Большей частью речь шла о предметах, к которым я, несмотря на юный возраст, питал трогательную любовь и жгучий интерес: о банке, о деньгах и их ценности, о богачах и их мелких причудах и слабостях.
— Читал «Биржевой листок»? — спрашивал, например, брат.
— Да, — отвечал его сослуживец. — Балтиморские поднялись. Вот что надо было купить!
— Конечно. Тут можно бы неплохо заработать.
— А сколько же можно заработать? — спросил я однажды.
Оба рассмеялись, как смеются умудренные опытом люди над наивными детскими вопросами, и брат ответил:
— Кто покупает вовремя, может наутро проснуться миллионером.
Мальчики и девочки в городской школе были совсем не такие, как в поселке: благовоспитанные и лучше одетые, насмешливые и полные презрения ко всему деревенскому. Долгое, долгое время я из кожи вон лез, добиваясь, чтобы они приняли меня в свою среду. Зная мое происхождение и видя мою бедную одежонку и грубые башмаки, они называли меня «мужиком». Мне это было невыразимо мучительно, тем более что, несмотря на все усилия, я не мог их заставить уважать меня. Притом я твердо знал, что мне нельзя ослаблять свои старания и терпеть неудачи, ибо я попал в среду, соответствовавшую моему образованию и моим планам на будущее.
Два долгих года я чувствовал себя ужасно одиноким и отверженным и часто плакал, возвращаясь по нашему тихому лесочку домой. Товарищей в поселке я растерял, а других взамен не приобрел. Удрученный, я часто испытывал затаенный гнев против матери, которая так бедна, что даже не может жить в городе. Но затем приходили такие минуты, когда во мне просыпалось упрямство и я решал не обращать внимания на этих заносчивых мальчишек и девчонок и доказать им, что я и без них добьюсь своего. Однако я целый день проводил возле них, и моя гордость просто не мирилась с тем, что мной пренебрегают. Поэтому я не переставал домогаться их благосклонности, но делал это так неуклюже и раболепно, что еще чаще становился предметом глумления.
Особенно злобно преследовали меня два хорошо одетых парня, сыновья богатых родителей. На переменах они открыто высмеивали меня и донимали всевозможными проделками, например прикалывали мне на спину бумажку с надписью: «Я дурак». Оба они сидели непосредственно за мной и нередко вполголоса подпускали колкости даже во время уроков. Какое им было дело, что я один из лучших учеников и что учитель часто хвалил меня перед всем классом! Это лишь подстрекало их к еще более обидным шуткам. Как-то раз, когда мне было предложено прочесть вслух свое сочинение, которое оказалось лучшим в классе, один из них произнес настолько громко и четко, что услышали все кругом: «А ты все равно мужик неотесанный!»
Я уже тогда был крепким и рослым и мог бы без труда расправиться с обоими. Но какое-то необъяснимое внутреннее сопротивление мешало мне даже обороняться, когда они на глазах у всех избирали меня мишенью для насмешек. И только если они очень уж допекали меня — дергали за волосы или забрасывали грязью, — я давал одному из них такого тумака, что он плюхался на землю.
Наш учитель любил каждую неделю предлагать классу контрольную работу. Потом собирал наши тетради, ставил отметки и клал их в основу оценок за семестр. Понятно, что эти работы внушали нам немалый страх, и мальчишки, сидевшие за мной — а оба были изрядными лентяями, — толкали меня в спину и шептали: «Послушай, как тут надо сказать?»
Я немало гордился, что мог им помочь, писал на бумажке ответ и передавал им, рискуя, что меня поймают и выгонят из класса. Они принимали эти услуги снисходительно, как должное. В лучшем случае в этот день не задирали меня.
Словом, все эти годы я был среди моих однолеток, мальчиков и девочек, очень одиноким — состояние, резко противоречившее моей натуре. Городские дети не принимали меня в свои игры, а с деревенскими мальчиками я сам не желал общаться. А тут и мой брат стал частенько возвращаться домой лишь к полуночи: он познакомился в городе с девушкой и обычно проводил вечера с нею. Мать, недалекая, вечно поглощенная заботой о том, как свести концы с концами, в это тяжелое время становилась мне все более чужой. Одиночество давило меня тем мучительнее, что я не читал книг и потому не мог создать себе фантастический мир, в котором можно было бы укрыться от печальной действительности. Правда, у меня все еще был стеклянный шарик и девочка в нем была так же красива, как раньше, и ночью я по-прежнему брал шарик с собой в постель. Но постепенно я перестал вести с девочкой увлекательные беседы, забыл их или же не находил в них больше интереса, и все сильнее мучило меня лишь одно желание: раздеть девочку и голенькую прижать к себе.
Моему воображению являлись соблазнительные картины, а со временем я научился разукрашивать их все ярче и ярче. Когда ночью я крепко прижимал к телу холодный шарик и закрывал глаза, передо мной отчетливо возникала фигурка девочки. Одежда спадала с нее, таинственность и непонятное возбуждение все усиливались. Позже я стал переносить свои желания на самых миловидных одноклассниц, и нередко во время перемены, стоя в одиночестве на лестнице и как будто пи о чем не думая, я смотрел вслед девочкам, проходившим под руку мимо меня, и мысленно срывал платье с самой красивой из них.
Пробудившееся половое чувство вообще причиняло мне большое беспокойство. Желание часто овладевало мной, когда я корпел над уроками, и вырывало перо у меня из рук. Тогда я мог полчаса просидеть над тетрадями, не шевелясь, уставившись в одну точку, и вожделение морочило меня великолепными, соблазнительными видениями. Заметив, что я сижу, ничего не делая, мать озабоченно покачивала головой, так как все, что нарушало обычное течение дня, приводило ее в смятение. Некоторое время она молча смотрела на меня, потом спрашивала, вздыхая: «Что с тобой, мальчик?»
Я не отвечал, да и что я мог ей ответить! Я сам не знал, что со мной. Она никогда не допытывалась и, подождав, печально принималась за свои дела.
Нельзя сказать, чтобы весь класс постоянно высмеивал и дразнил меня. Часто бывало, что мальчики разговаривали со мной как с равным, и, вероятно, мне уже через несколько месяцев удалось бы перебросить мост через разделявшую нас пропасть, если бы те двое постоянно не изобретали все новые проказы, заставлявшие других хохотать надо мной. Но девочки редко принимали в этом участие. Нет, как я говорил, я уже тогда был красивым и статным юношей, и, когда мальчишки заходили слишком далеко, случалось, что девочки заступались за меня.
— Оставьте его в покое! — кричали они. — Вы сами гораздо глупее его. — Меня же они подбадривали: — Защищайся, тогда они отстанут!
Но я только уныло качал головой.
— Мне все равно! — говорил я, чуть не плача от горя.
Я знал, что не физической силой, а как-то совсем иначе должен добиться признания у этих мальчиков. Успеха я достиг лишь в последнем учебном году, и притом опять-таки совсем особым способом.
Мои сверстники в ту пору зачитывались историями об убийствах и приключениях с такими примерно заглавиями: «Двойное убийство на сцене» или «Семь преступлений таинственного мистера Икса». Эти книжонки продавались за несколько раппенов во всех киосках. Дома в надежном тайнике у меня все еще хранилась небольшая сумма: я заработал ее когда-то разноской обуви и никогда к ней не прикасался. Сам я не читал этого печатного хлама, но, когда заметил, с какой жадностью его поглощали мои товарищи, мне пришла в голову хорошая мысль: устроить в школе своего рода библиотеку из этих книжек. Я купил на несколько франков с десяток подобных книжонок, обдуманно выбирая такие, где жуткие заголовки еще подчеркивались соответствующими картинками на обложках. Эти книжки я за пять раппенов давал читать своим одноклассникам, и вскоре все они стали моими абонентами. На каждого я открыл особый счет и аккуратно записывал, когда он получил тот или иной томик, когда должен был вернуть и сколько мне следует с него. Я давал книжки и в кредит, если это казалось мне выгодным. Иногда я даже искушал кого-нибудь из ребят, протягивая книжку со словами:
— Возьми же! Заплатишь, когда у тебя будут деньги!
На этом деле я отлично зарабатывал, мог покупать новые книги, и вскоре половина класса была у меня в долгу. Оба мои врага тоже попали в число должников. Само собой разумеется, что все издевательства надо мной немедленно прекратились. Напротив, теперь каждый хотел быть моим другом, и мой авторитет в классе рос день ото дня. Но я не забыл прежних оскорблений и если не благоволил к кому-нибудь, то, не стесняясь, давал это почувствовать. Когда я приносил новую партию книжек и раскладывал их перед жадными глазами товарищей, каждый, конечно, хотел что-нибудь получить. Они кричали наперебой:
— Послушай, можно взять?
— Пожалуйста, дай мне вот эту, ты ведь знаешь, что я никогда к тебе не приставал!