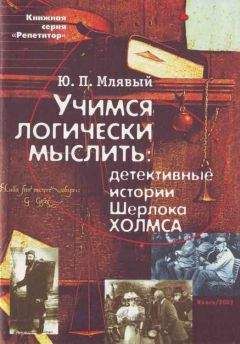Отто Штайгер - Избранное
— Мама сказала, чтобы ты сегодня пообедал у нас.
— Вот как? — отвечал я. — Ладно! — И шел с ним.
Я знал, что мы бедны, но это меня не смущало: так же ясно и твердо я знал, что когда-нибудь стану богатым. Я брал с вежливым «спасибо» всё, что мне протягивала милосердная рука, никогда не говорил «нет» и верным глазом оценивал дарителя по стоимости дара.
Я уже говорил, что учился прилежно, но и помимо этого я старался всячески угождать учителю. Во время урока я никогда не шалил, наоборот, скрестив руки, с напряженным вниманием глядел на классную доску или на учителя. В ответ на каждую его шутку я сразу же разражался громким смехом и вообще прибегал ко всяким уловкам, с помощью которых люди испокон веку пытаются снискать благоволение начальства. Мои старания быстро увенчались успехом, и вскоре учитель стал отличать меня. Он ставил мое прилежание и хорошее поведение в пример лентяям и озорникам, он часто говорил перед всем классом, что из меня выйдет толк, а иногда он разрешал мне по окончании уроков относить тетради и книги к нему на квартиру. Тогда я гордо выступал рядом, стараясь шагать с ним в ногу.
Однажды он задержал меня после урока, серьезно посмотрел на меня и с важным видом сказал:
— Пусть твоя мать в субботу под вечер зайдет ко мне с тобой вместе. У меня будут два или три члена совета. Нам нужно кое-что обсудить с ней.
И вот в субботу мать надела парадное платье и чепчик, и мы с ней отправились в путь. У меня было не совсем спокойно на душе, однако я не представлял себе, в чем я мог провиниться. Да и мать, по-видимому, не знала, что это значит, но храбро шла вперед с обычным решительным видом и, казалось, готова была взять быка за рога и защищать свое детище от всякой напасти.
Учитель встретил нас приветливо, и два других господина тоже: они подали мне руку. Учитель обратился к матери. Ее попросили прийти, сказал он, чтобы поговорить о моем будущем. Он должен отметить, что я прилежный ученик, и потому он подумал, что неплохо было бы, если бы я с весны мог посещать городскую школу, для того чтобы потом из меня вышло что-нибудь путное.
Мать среди своей повседневной маеты редко слышала доброе слово и, конечно, была безмерно обрадована похвалой. Как она ни старалась скрыть волнение, я все же заметил, что она борется со слезами. Но она овладела собой, и только руки ее, лежавшие на коленях, нервно перебирали носовой платок, когда она ответила, что уже подумывала об этом, но беда в том, что посылать мальчика в город ей не по средствам.
При этих словах один из господ, которого я уже встречал раньше, кашлянул и произнес неторопливо и покровительственно:
— Поэтому мы здесь и собрались!
Он говорил долго и строго о мудреных вещах, которых я не понимал: о помощи ближнему своему и о том, что надо уповать на бога. От этой прекрасной речи мать все-таки начала всхлипывать и поднесла платок к глазам. Наконец было условлено, что, пока я буду учиться в городской школе, община будет помогать матери небольшой суммой.
После этого нас отпустили. На прощание господа призвали меня всегда помнить о той жертве, которую жители поселка приносят ради меня, я должен усердно учиться и слушаться мать.
На обратном пути мать молчала: такой уж был у нее характер. Все же она раза два погладила меня по голове, глубже натянула мне шапку на уши и застегнула мою коричневую курточку, чтобы я выглядел достаточно солидно.
Глава четвертая
Так мальчик, нисколько этим не хвалясь, доказал на деле, что счастье улыбается достойному и что из прилежания, выдержки и знания цели складываются самые прочные ступени лестницы успеха. Я сделал первый и важнейший шаг: пробил себе дорогу к более полному образованию — я больше не был обречен прозябать весь век батраком или чернорабочим. Желание стать когда-нибудь видным и богатым коммерсантом начало приобретать в моем юном воображении более отчетливую форму и превратилось в торжественный обет, которому были отданы все мои помыслы и стремления.
И внешне, с тех пор как я стал посещать городскую школу, кое-что пошло по-иному. Мать мало-помалу начала обращаться со мной иначе, с большим уважением. Когда она видела, что я сижу за книгами и тетрадями, она уже не требовала, чтобы я помогал ей по хозяйству и бегал по всяким поручениям в поселок. Порой, вытирая посуду, она заглядывала через мое плечо в тетрадь и, если замечала, что я решаю задачи на дроби, которые были для нее тайной, или заучиваю непонятные ей французские слова, начинала ходить по кухне на цыпочках и ставила тарелки и чашки в буфет, стараясь не звякнуть ими, чтобы не мешать мне.
Часто я делал вид, будто чего-нибудь не понимаю, и спрашивал ее, как произносится то или иное слово, хотя знал, что она не говорит по-французски. И когда она отвечала, что не знает, я ясно видел, как стыдится она своего невежества. Я не хотел делать ей больно, а она, чтобы избежать подобного унижения, обычно старалась под каким-либо предлогом уйти из комнаты, где я занимался.
Естественно, что день ото дня я становился все более самоуверенным и вскоре вполне осознал свое духовное превосходство над матерью. Этим преимуществом я по-мальчишески, довольно безобидно, пользовался для того, чтобы совсем отстраниться от домашних забот. Когда мать иной раз просила меня выполнить какую-нибудь работу по дому, я отвечал: «Сделай сама! Мне сейчас некогда, я должен тут еще помозговать».
И она безропотно подчинялась. На первый взгляд мое поведение может показаться жестоким и недостойным, особенно если припомнить, что мать целый день трудилась у чужих людей и вечером приходила домой совершенно без сил. Но я не стыжусь, что так вел себя. Как-никак это ясно показывает, что у меня уже тогда была деловая закваска, уменье замечать и обращать в свою пользу любое выгодное для себя обстоятельство и та необходимая твердость, какая позволяет человеку пренебречь мелкими укорами совести, если ему нужно добиться своей цели.
Конечно, такое поведение заслуживало бы порицания, если бы выигранное время я тратил по-пустому, читал, подобно моим товарищам, романы или рассказы про индейцев. Но я был совершенно равнодушным к таким книгам, и, когда другие мальчики с увлечением о них говорили, я чувствовал, что стою намного выше своих сверстников, и отвечал на подобные ребячества только презрением и язвительной улыбкой.
По утрам я мог теперь ездить в город вместе с братом. И если меня все еще — особенно в зимние ночи — пугала дорога через лес, то я этого больше не показывал и постоянно твердил себе, что такой страх смешон и привидений на свете нет. Брат, по-видимому, уже не так меня стыдился. Во всяком случае, он больше не старался убежать от меня и на пути к станции рассказывал, какая у него трудная и ответственная работа. А в те дни, когда он сообщал мне, что накануне опять переносил огромную сумму — тысячи франков — из одной конторы в другую и что тут надо смотреть в оба, ибо любую недостачу придется возмещать из собственного кармана, мое уважение к нему возрастало беспредельно.
Как завидовал я его работе! Я готов был плакать от злобного негодования, что я слишком мал для такого дела. Я боялся, что никогда не сравняюсь с братом.
Возле булочной я бросал взгляд в сторону старого здания, где большинство моих товарищей все еще протирали штаны за школьными партами, и мимоходом приветствовал кого-нибудь из них. Я никогда не останавливался, потому что с тех пор, как за франк продал весь свой запас каменных шариков сыну хозяина гостиницы «Ключ», потерял интерес к мальчишкам из поселка, вечно игравшим в шарики.
На станции уже толпился народ: служащие и рабочие городских предприятий, а также мальчики и девочки — их было немного, — которые, подобно мне, посещали городскую школу. Взрослые все знали друг друга и здоровались с тем привычным, но вялым интересом, какой обычно проявляют друг к другу жертвы общего рока. Все неподвижно ждали, пока поезд, пыхтя, взбирался по пологому склону пригорка, на широкой спине которого раскинулся поселок и стояла станция.
Тогда на перроне начиналось движение. Из своей конторы выходил начальник станции и, напустив на себя важность, раскланивался со знакомыми. Люди перебегали через рельсы, чтобы при посадке оказаться первыми и, если удастся, захватить сидячие места. Нам с братом не приходилось об этом хлопотать: коллега брата по работе ехал издалека и занимал для нас места в первом вагоне. Я был горд, что сижу рядом со взрослыми, и, пока паровозик, прилежно посвистывая, пробирался вперед своей извилистой дорогой, я с напряженным внима-нием прислушивался к их разговорам и запоминал все, что мог понять.
Большей частью речь шла о предметах, к которым я, несмотря на юный возраст, питал трогательную любовь и жгучий интерес: о банке, о деньгах и их ценности, о богачах и их мелких причудах и слабостях.