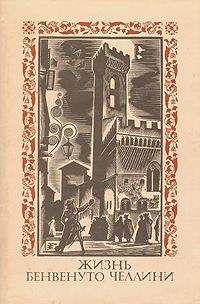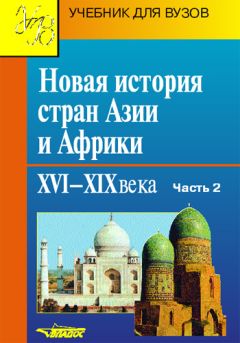Андрей Волос - Хуррамабад
Мать не любила невестку, а жена — свекровь, и с этим ничего нельзя было поделать, не отлив обеих заново в иных формах, более подходящих для всеобщего благоволения в человецех. Поскольку в ближайшее время такого передела не предполагалось, Ивачев не стал заикаться о том, что жена мечтает переделать запонки в сережки и небольшую брошь (это могло получиться при определенной смелости ювелира), а просто сказал, что на этот раз возьмет запонки с собой, тем более что мать уже несколько раз предлагала это сделать. Они сидели на стульях по обе стороны разверстого чемодана, уложенного наполовину, и говорили о том о сем, причем Ивачев, пребывающий в нервозно-приподнятом предотъездном настроении, щебетал не умолкая, а мать лишь слушала его, слегка улыбаясь. В том, что так оно и должно быть (он говорит, а мать слушает), Ивачев не сомневался, потому что так было всегда с тех пор, как он уехал и стал появляться в Хуррамабаде наездами. К тому же то, что говорил он, было ей интересно в любом случае, то же, что говорила она, было почти всегда известно ему загодя или казалось известным загодя; он скоро рассеивался и начинал думать о чем-то ином и потом, застигнутый врасплох ожиданием реакции на рассказанное, вынужден был обходиться неопределенными кивками.
— Запонки? — переспросила мать неожиданно не тем тоном, который он предполагал услышать. — Я бы не хотела, чтобы ты брал их сейчас.
— Почему? — переспросил Ивачев, растерявшись на секунду.
Мать пожала плечами.
— Ты отдашь их Вере, она их примется переделывать во что-нибудь и загубит.
— С чего ты взяла? — спросил Ивачев кисло. — Не будет она их переделывать ни во что.
— Ну как хочешь, — сухо сказала мать. — Я тебе давно обещала, можешь взять. Но мне не хотелось бы, чтобы это было сейчас.
Она не могла сказать ему всего, что думала об этом, потому что не умела выразить словами некоторые свои представления, которые самой ей были ясны, понятны и обладали всем блеском убедительности до тех самых пор, пока она не пыталась вынуть их из глубины души на поверхность для того, чтобы, как это водится у людей, облечь в шелуху слов и тем самым дать возможность другому снова вышелушить смысл. Будучи подняты на поверхность, они, словно те светящиеся глубоководные рыбы, что могут жить лишь в головокружительной бездне сжатой собственным весом воды, безжизненно обвисали, преданно выпучив мертвые глаза, и даже ей самой казались глупыми и ненужными.
Если она все же пыталась поделиться такого рода знанием с мужем или сыном, все ее утверждения оказывались голословными и не были способны никого ни в чем убедить. По прошествии времени могло бы оказаться, что она была права, если бы кто-нибудь помнил то, что она когда-то голословно утверждала; но самой ей уже было не до этого, потому что с течением времени много смутных представлений меняли одно другое и были при этом одно другого важнее; а муж и сын не помнили этого потому, что слова ее были достаточно огульны, чтобы, влетев в одно ухо и не выдержав мало-мальски серьезного испытания логикой, вылететь в другое. Если порой она все же пробовала напомнить им о том, что предрекала когда-то, они удивлялись и не верили ей, утверждая, в свою очередь, что она говорила нечто иное. В общем, слова только портили дело и не могли ей ни в чем помочь.
Так, например, она знала, что жена Никиты принадлежит ему в гораздо меньшей степени, чем он ей, и определяется это тем, что она в свои двадцать два все же значительно старше, чем он в двадцать четыре. Однако через несколько лет то, что нынче было в Ивачеве зернами, должно было вызреть и мощно пойти в рост, делая его совсем иным, неузнаваемо взрослым; а характер его жены не позволит ей смириться с такого рода переменой, и вместо того, чтобы благоразумно спрятаться за его спиной и следовать за ним, как следуют баржи, проводимые ледоколом, она продолжит свои обреченные на неудачу попытки буксировать его по жизни в ту сторону и с такой скоростью, какую найдет нужной. Тросы супружества бывают крепче корабельных, но при известном постоянстве можно перетереть и эти бесчисленные проволочки любви и привязанности. Ей не хотелось, чтобы к тому времени, когда они лопнут, у сына уже был ребенок. Запонки можно отдать; дело было не в запонках; но что получит другая, та, что неизбежно появится, безоговорочно ему поверит и подчинится ходу его жизни, как бы его жизнь ни петляла и в какие бы дали ни проросла? Что она получит в залог того, что в ее руках теперь третья жизнь, как в руках ее детей будет четвертая?
— Так почему все-таки? — спросил Ивачев.
Мать пожала плечами и ответила:
— Потому что она тебя не любит.
3Конечно, это было совсем не то, что она хотела сказать, точнее — не совсем то, и ей было понятно возмущение сына, в жизнь которого она снова так беззастенчиво полезла. Ивачев вспыхнул, надулся, минуту молчал, а затем стал, косо поглядывая на нее, говорить о несправедливости и привычке, о стремлении во всем настаивать на своем и о стихийной антипатии; он торопливо разгонял руками мусор дрязг на воде любви, чтобы она увидела хотя бы в его пересказе, как эта любовь сверкает, и толковал о невозможности понимания между близкими людьми. Он знал, что мать ревнует его к жене; временами ему казалось, что мать готова выворотить все наизнанку, черное сделать белым и наоборот — и все для того, чтобы подвести основу под свои безосновательные, но заведомо обвинительные заключения. Ивачев говорил об этом и еще о том, что такая линия поведения непростительна, забывая, впрочем, что жене он ровно такую прощает по той причине, что любит ее острее и покорнее. Мать молчала, кивала иногда, и ему хотелось бы верить, что постепенно он ее переубеждает.
— Ну, хватит, в самом деле, — сказала она мягко.
— Вот ты сама начнешь, а потом хватит… — буркнул Ивачев. — Вот я тебя не понимаю иногда, честное слово. Что ты к ней цепляешься?
Мать вздохнула, тяжело поднялась со стула, принесла из другой комнаты шкатулку и поставила ее на стол.
— Вот, — сказала она.
Ивачев осторожно положил вещицы на левую ладонь и стал смотреть на них, как часто смотрел в детстве, тайком вынув из шкатулки, — сощурившись, отчего они становились окончательно и бесповоротно волшебными. Казалось, что вокруг них сгущается голубоватый туман: все, что он знал о бабке со слов ее и матери, все, что он знал со слов бабки о ее родителях, о родителях деда, об их дедах. Должен быть тот или иной центр кристаллизации памяти, и две эти драгоценные цацки, попавшие в семью волею случая, степень закономерности которого никому не удастся измерить, с бриллиантовым блеском играли его роль. Он поднял глаза на мать. Она смотрела ему в лицо так, словно в нем должны были произойти какие-то изменения, и теперь она их пыталась обнаружить. Если ее лицо было как никогда спокойным, то Ивачев, напротив, почувствовал смутное беспокойство оттого, что во взгляде ему почудилось какое-то ожидание, и он не знал ни чего она от него ждет, ни сможет ли он это ожидание оправдать.
— Ну вот, не потеряй, — сказала мать.
Ивачев кивнул: мол, это само собой разумеется, и завернул запонки в ту самую фланельку, в которой они лежали всегда. Что-то кольнуло его, и он с удивлением понял, что ждал совсем другого — того именно, что мать заупрямится и реликвию не отдаст, оставит у себя, а вместе с реликвией останется и ответственность; оказывается, он именно этого и ждал, и ему было бы проще сказать Вере, что нет, а на нет и суда нет; теперь же придется долго и мучительно выдерживать ее осаду, тем более что он уже обещал отдать; и, как сейчас понял, обещал напрасно. Вот, — подумал он, с легким раздражением глядя на складывающую его рубашки мать, — отдала. Как будто это такая вещь, которую можно так просто отдать. Раз — и нет. Ну можно ли так бездумно распоряжаться? — витийствовал он про себя. — Ну и что — сын, подумаешь — сын. А если сын попросит рубашку с плеча или… или голову с плеч — что тогда?
4Как только вернулся отец, поспешили сесть за стол, и нашлось по граммульке. Перед тем как выпить, отец что-то долго говорил, обращаясь к нему и чуть помахивая в такт словам зажатой в руке рюмкой, а Ивачев, немного принужденно улыбаясь, делал вид, что ему это интересно. Отец любил говорить тосты, разнообразием они не отличались, особыми вывертами не блистали и сводились, в сущности, к пожеланию здоровья и успехов да еще к выражению уверенности в том, что праздничная чаша есть необходимое возлияние богам, без которого они вовсе отвернутся от пренебрегающих ими людей. Ивачев полагал, что слова ценны постольку, поскольку в них содержится что-либо новое, неслыханное раньше; в словах же отца ничего нового не было, да и реплики матери новизной не отличались. Он делил себя между ними и растущим желанием оказаться скорее возле Веры, ел торопливо и то и дело прислушивался к нагрудному карману: там? Да, они были там, и это было, по-видимому, правильно. Как только они оказались у него в руках, что-то переменилось и в нем самом, и в окружающем. Если прежде он хладнокровно размышлял о том, что будет недурно переделать эти бирюльки, знакомые с детства, в сережки и брошь для жены (такие сережки и такую брошь, каких сам он ей никогда в жизни, видимо, не сможет купить, и, значит, она будет вынуждена обходиться без них — а разве это справедливо?), то теперь, когда запонки лежали в кармане, подобный проект представлялся дичью несусветной, и было непонятно, как мог он если не породить его, то с ним согласиться.