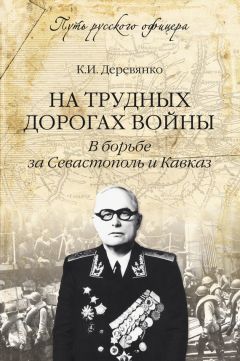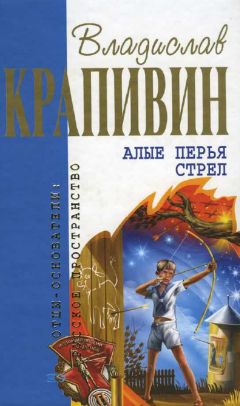Перья - Беэр Хаим
Малую толику того, что он знал, дядя Цодек записывал на полях книг из своей богатой домашней библиотеки. Ее основу составило книжное собрание моего деда, и в ней хранилось немало первопечатных иерусалимских изданий, включая редкие брошюры «Эмет у-мишпат» и «Димъат ашуким», увековечившие начало неугасимой полемики вокруг участка, на котором была построена ешива «Эц Хаим». Как известно, одной из сторон в этой распре оказались ученики раввина Шмуэля Саланта, а другой — круг учеников и последователей раввина Шмуэля-Биньямина ѓа-Коэна, именуемого Радошковичем [372]. В дедовском собрании также сохранился единственный экземпляр сатирической поэмы «Гилат Цион», сочиненной и распространявшейся противниками раввина Менахема-Мендла Иерусалимского, причем нужно отметить, что это редчайшее издание оказалось недоступно даже таким авторитетным исследователям, как Элиэзер-Рефаэль Мальахи и госпожа Шошана Ѓалеви [373].
Увы, через тридцать дней после дядиной смерти, когда над его могилой установили постоянное надгробие, его вдова вернулась с кладбища и, вызвав гурджийского [374] грузчика Леви Трегера, вечно ходившего выпятив голый живот, приказала ему вынести из дома все книги своего покойного мужа. Так пропало бесценное собрание, мешавшее недалекой женщине тем, что оно «бесцельно пылилось и плодило мышей и тараканов».
Узнав об этом, моя мать разрыдалась и сравнила свою ничтожную свояченицу с трансильванской женой своего свекра, которая точно так же выбросила на помойку собранные ее умершим мужем склянки с моллюсками и куски окрашенной тхелетом шерсти. Мысль о гибели книг, из-за которых между ней и ее покойным братом выросла стена, причиняла ей невыносимую боль.
Таким образом, дядя Цодек, обещавший оставить мне свои книги в наследство, не смог выполнить свое обещание. Лишь по прошествии многих лет, оказавшись однажды в книжном магазине Шейнбергера на главной улице Меа Шеарим, напротив аптеки Сар-Шалома Дейча, я обнаружил там и приобрел несколько книг из дядиной библиотеки.
Помимо этих книг, доставшихся мне совершенно случайно, литературное наследие дяди Цодека включало в себя две дюжины «удостоверений личности», оставшихся на руках у членов нашей семьи. Такие семейные удостоверения дядя вручал сыновьям своих родственников по достижении ими тринадцатилетнего возраста, и в них содержалась детальная информация, возводящая родословную нашей семьи к Ари и Маѓаршалю [375]. Эти маленькие книжечки, отпечатанные на машинке судебного секретариата, дядя вклеивал в обложку из голубой бристольской бумаги, на которой он изображал ветвистое дерево. Обвивающий его ремень тфилин напоминал змея, обвивающего древо познания добра и зла, а над картинкой дядиной рукой делалась искусная надпись: «Древо, древо! Чем благословлю я тебя? Да будет воля Небес, чтобы потомки твои были подобны тебе».
Кроме того, дядя яркой гуашью изобразил наше генеалогическое древо на огромном листе фанеры, выломанном из ящика от импортного чая. Этот фанерный лист постоянно вывешивался в сукке моего двоюродного брата Шалома, пока однажды ранний осенний ливень не смыл с него ствол, многочисленные ветви и мощную корневую систему изображенного древа. Стерлись имена, написанные дядей на каждой ветви и веточке, на каждом из толстых корней и тонких корневых ответвлений. Исчез изображенный под одним из корней медный таз, символизировавший написанный Маѓаршалем труд «Ям шель Шломо» [376]. Исчезли двенадцать быков, на которых покоился этот огромный таз, напоминавший о таком же сосуде, установленном царем Шломо во дворе построенного им Храма. Корень, ведущий к Святому Ари, превращался на дядином рисунке в хвост рычащего льва [377], а корень, символизировавший родство нашей семьи с рабби Исраэлем Шкловским, автором «Пеат ѓа-шульхан», вырастал из резной ножки стола, покрытого скатертью Рамо [378], с выложенными на нее книгами по ѓалахе.
Сложным вещам и еще более сложным связям между ними, легко теряющимся в тумане веков, дядя Цодек пытался придать наглядность посредством своих рисунков. Такого же замысловатого способа изложения он придерживался и в тот день, когда мы сидели с ним в судебном буфете и он рассказывал мне семейную историю Ледера.
— А мясо бычка и кожу его и нечистоты его сожги в огне вне стана [379], — напевал дядя Цодек, старательно рисуя на странице в моей ученической тетради шкуру животного. Похожие изображения я видел на желто-синих рекламных плакатах в витринах торговавших кожей магазинов в Нахалат-Шива. По утрам возле них толпились сапожники и скорняки, подбиравшие себе одни — грубую, остро пахнущую кожу для подметок, другие — мягкое, приятное на ощупь шевро.
Судебный буфет как будто наполнился ароматами кожи, пока дядя Цодек расчерчивал нарисованную им шкуру острым пером, напоминавшим в эти минуты короткий кожевенный нож в руках подмастерья. Написав в четырех углах своего рисунка разные имена, дядя сказал, что, если я хочу понять, как стелилась на протяжении лет эта шкура — здесь он обыграл значение фамилии «Ледер» на идише, — мне следует внимательно выслушать его рассказ, не отвлекаясь на каверзные вопросы.
— Слышал ли ты о раве Йосефе-Зундле Саланте, прародителе движения мусар [380], ученике рава Хаима из Воложина и рабби Акивы Эйгера? [381] Дело было давно, четыре поколения тому назад, в пятидесятых годах прошлого века по летоисчислению народов мира. В те далекие дни вместе с одним из взошедших в Иерусалим евреев диаспоры прибыл мальчик, имевший намерение встретиться с равом Йосефом-Зундлом. В городе рассказывали, что этот мальчик, рано лишившийся отца и матери, был отправлен к знаменитому мудрецу равом Исраэлем Салантером, основоположником движения мусар. В доставленном им письме Светоч Израилев [382] извещал своего учителя о том, что скончавшийся недавно отец Меира Ледера был одним из самых богобоязненных и способных учеников его ковенской ешивы. В то же время дядя Меира по материнской линии был известен в Ковно как один из наглейших безбожников-маскилим [383]. Сделавшись опекуном осиротевшего племянника, он вознамерился оторвать того от изучения Торы, и в сложившейся ситуации рав Салантер счел правильным тайком отправить Меира в Иерусалим.
Дядя Цодек рассказал, что мальчик Меир вырос в доме у рава Йосефа-Зундла, представлявшем собой темную комнату в убогом общественном здании, которое возвышалось тогда посреди руин, оставшихся от недостроенной синагоги рабби Йеѓуды Хасида [384]. Скромное пропитание раввину давала небольшая уксусоварня, которую держала его жена, но ограниченность в средствах не помешала супругам заменить ребенку отца и мать.
Через полгода после смерти рава Йосефа-Зундла в Иерусалиме случилась свирепая эпидемия холеры. Все звучавшие в городе молитвы были отвергнуты Небом, все воскурения остались без проку, и тогда один из местных каббалистов указал надежное средство остановить эпидемию: поженить на кладбище двух сирот. И вот посреди кладбищенских ям, в которые свозили со всех сторон и засыпали там известью тела умерших от холеры, возле могилы рабби Хаима Ибн-Атара, автора знаменитого комментария к Пятикнижию «Ор ѓа-хаим», был установлен свадебный полог. Главы раввинского суда Иерусалима поженили под ним сироту Меира с Башей Голдшмид, лишившейся родителей и братьев в дни эпидемии.