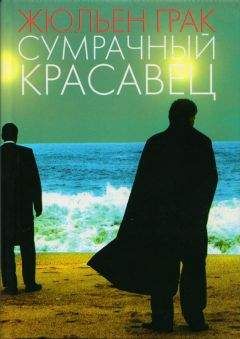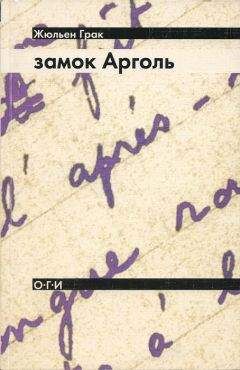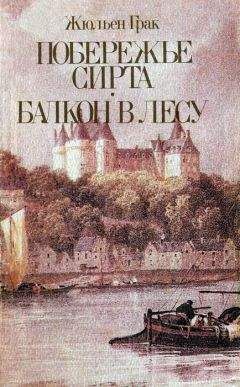Жюльен Грак - Побережье Сирта
— Ты, я думаю, был в курсе действующих в Сирте правил навигации? — сказал наконец капитан, кашлянув, чтобы прочистить горло. — Хотя это и формальность, — поторопился он добавить, — но положение дел теперь требует некоторых уточнений: мне предстоит тоже написать донесение.
— Я готов в письменном виде дать разъяснение, снимающее с вас всякую ответственность, — сказал я почтительным тоном. — Я действовал совершенно сознательно.
Марино повернул голову ко мне так, словно она была у него на пружине.
— Совершенно сознательно?.. — задумчиво повторил он. Я заметил, что ему тяжело дышится. — Ты не отдаешь себе отчета в том, что говоришь, — добавил он и сокрушенно покачал головой.
— Когда-то вы уже говорили это Фабрицио и действительно так думали, — сказал я мягко, потому что острая печаль, прозвучавшая в его голосе в этот момент, наполнила мое сердце жалостью. — Фабрицио был тогда еще ребенком. Но когда вы говорите это мне, то вы не верите в то, что говорите.
Старик посмотрел на меня своими глазами цвета прозрачной воды.
— Я тебя очень люблю, Альдо, — сказал он с некоторым замешательством, — разве ты этого не понимаешь? Я люблю тебя, потому что знаю тебя лучше, чем тебе кажется. В твоем возрасте люди не любят находить себе смягчающие обстоятельства, потому что у них всегда остаются сомнения, до какой степени они себя скомпрометировали, совершив тот или иной поступок. Я хотел бы, чтобы сейчас, когда ты подвергаешься большой опасности быть преданным суду, ты отбросил гордыню.
— А кто будет судьей? — спросил я, неуверенно пожимая плечами, так как голос Марино вдруг стал необыкновенно твердым. — Я обязан давать отчет в своих поступках другим людям, — добавил я, отворачиваясь в сторону. — Жаль, что мне приходится принимать это во внимание впервые лишь сейчас, когда нам с вами предстоит вот-вот расстаться.
Марино слегка побледнел, и его взгляд, в котором светилась высокомерная строгость, вонзился в меня.
— Я говорю не о Синьории. У нее свои дела, о которых она ставит тебя в известность, и лучше, наверное, чем я; кстати, об этом я сейчас тебе тоже скажу. Я говорю об Орсенне.
— Вы хотите сказать, что говорите за нее?
Мне показалось, что на какое-то мгновение старик настолько глубоко погрузился в мысли, что его рука, вытянутая вдоль тела, вдруг машинально стала волочиться по песку, словно брошенное весло, оставляя там маленькую бороздку.
— Происхождение, кровь — это еще не все, Альдо, — сказал он медленным, серьезным голосом. — У тебя она горячая, и здесь всем известно, в какой семье ты родился. Я здесь состарился, — продолжал он, глядя вдаль своим немного затуманенным взглядом. — Это моя земля; я могу ходить тут с закрытыми глазами, могу назвать по имени каждую кочку. И именно поэтому я хочу тебе сказать одну вещь: она ведь не карта в руках игрока.
— Я был не один на «Грозном», — сказал я после небольшой паузы. — Вы же не хуже меня понимаете: ситуация здесь так накалилась, что нечто подобное все равно должно было случиться. Вы упрекаете меня в том, в чем виноват рок, — добавил я с легким налетом высокопарности и тут же почувствовал, что невольно краснею.
— Да, бывает, что рок приходится очень кстати, и тогда нужно вовремя им воспользоваться, — отрезал старик неожиданно энергичным тоном. — Это я не о тебе, — добавил он смущенно, — ты же прекрасно понимаешь. — Он, словно извиняясь, махнул рукой, и это меня успокоило. — Ты не мог здесь жить, да? — спросил он с выражением острого и одновременно застенчивого любопытства на лице. Такое было впечатление, что он, отчаявшись, решился наконец впервые постучать в закрытую дверь, попытался взглянуть своим близоруким глазом сквозь щелку, позволяющую увидеть иной свет.
— Нет, — сказал я, — не мог. И Маремма тоже не могла, и старый Карло.
Я увидел, как омрачился лоб старика.
— Старый Карло… Да, — сказал он вдруг задумчиво, — именно этого вот дня я и боялся. В этот день что-то треснуло, как во время обвала. Но почему?
Он поднял на меня свой взгляд, послушный и растерянный взгляд собаки, готовой повиноваться жесту своего хозяина, который она не понимает.
— Трудно сказать…
Я отвернулся и стал рассеянно смотреть на море, невыразимо смущенный и этой доверчивостью, и этой покорностью.
— …Неужели возможно, чтобы вы вот так прожили здесь годы, зная, что напротив находится… это, — прожили как ни в чем не бывало?
— Я не люблю все далекое и сомнительное, — сказал Марино более уверенным тоном. — А теперь нить оборвалась: тем лучше, раз она оборвалась. Все это было до меня, могло бы длиться и после меня. Тут ничего не поделаешь. Была Орсенна, было еще Адмиралтейство, и потом было море. Пустынное море… — сказал старик как бы самому себе, прищуриваясь из-за соленого ветра.
— А потом… ничего?
— А потом ничего, — ответил он, поворачиваясь в мою сторону и глядя мне прямо в глаза. — Зачем это желание думать о чем-то таком, что от нас уже ничего не требует?
— Адмиралтейство, и еще море, а потом ничего… — повторил я, бросая на него озадаченный взгляд. — Вчера, потом сегодня, потом еще сегодняшний вечер… а потом ничего?
— Ты находишь это абсурдным потому, что ты очень молод, — ответил Марино с какой-то странной интенсивностью в голосе. — Я уже стар, и Город уже очень старый. Наступает такой момент, когда счастье — спокойствие — заключается в том, чтобы видеть вокруг себя много изношенных вещей, чтобы они износились до основания — от долгого трения и от множества дум о них. Это-то и называется эгоизмом стариков, — добавил он с неопределенной улыбкой, — которые стали толще оттого, что многие вещи вокруг них стали тоньше. Они не изнашиваются, — капитан с упрямым видом покачал головой, — это они изнашивают находящиеся вокруг них вещи.
— Орсенна не могла вечно жить, зарывшись головой в песок, — бросил я ему запальчиво. — Только вы и могли жить здесь, не задыхаясь, — добавил я почти с ненавистью в голосе. — Даже Фабрицио поплыл, когда представилась возможность. Он, правда, не знал зачем, но все-таки поплыл. Даже старый Карло и тот сделал бы то же самое, вы это знаете. Было уже просто невозможно выдержать.
— Нет, Альдо, — ответил Марино тоном спокойной проницательности, — это было возможно. Тебе не дано этого понять, потому что ты нездешний, ты уже нездешний. Но те, кто взял у Орсенны кровь для своих вен — черпая в ее прошлом и ее будущем, — могут очень веско возразить: важно только быть. Здесь. Теперь. Орсенна находится везде, где кончается мир вещей, — продолжал Марино, сделав головой жест, выражающий неуклюжую, тяжеловатую уверенность. — Она перестала давать повод для размышлений. Она просто продолжала существовать с открытыми глазами.
— С едва приоткрытыми, — горько возразил я. — Да и то вы приписываете ей больше жизненных сил, чем их у нее есть на самом деле. Покойники тоже, если до них не дотрагиваться, лежат с открытыми глазами. Орсенна заснула с открытыми глазами.
— Навсегда, — сказал старик тоном, каким читают молитвы или обращаются к кому-то с мольбой, задумчиво скользнув взглядом по морской поверхности. — Ты не знаешь, что такое избавление: это состояние, за которым нет уже ничего.
Он махнул рукой в сторону песчаной косы. Вода прибавлялась, уже совсем рядом с нами шуршала песком и полировала плоские валики пузырящейся пены.
— Это земля, в которую приятно лечь спать, — добавил он, погруженный в ту глубокую задумчивость, которая была ему присуща почти органически и, похоже, означала у него крайнюю концентрацию внимания. И он тут же продолжил, словно в бреду: —…Когда меня туда опустят, то мне кажется, я буду подгребать ее обеими руками на лицо и она совсем не будет на меня давить: настолько она легкая, оттого что я забрал у нее ее вес.
Кивком головы я показал Марино на кладбище. Оно теперь казалось на фоне низкого горизонта всего лишь тонкой черной линией, прочерченной над песками его каменной оградой.
— Орсенна находится там! — сказал я, беря его за руку. — Повсюду, где она рассеяла свою кладбищенскую землю. Это и есть то самое, что вы защищаете?
— Она существовала долго, — продолжал старик с религиозной дрожью в голосе. Он обратил на меня свои наводящие тоску глаза слепца. — …Здесь, когда тело падает в яму, то вздрагивают пять миллионов останков, которые оживают до самых глубоких песчаных глубин и чувствуют его, как мать чувствует тяжесть своего покойного ребенка, когда его опускают в могилу и укладывают над ней. И нет другой вечной жизни.
— Есть, — сказал я ему, бледнея, — есть другая вечная жизнь. Но только над последышами слишком старого города тяготеет проклятие.
— Он не старый, — отрезал старик лишенным тембра голосом. — Он не имеет возраста. Так же, как и я.
Он прошептал сквозь зубы, как бы только для себя, девиз города. И я на миг почувствовал вдруг что-то вроде ослепления; мои глаза заморгали, и в течение секунды мне казалось, что он говорит истину и что его тяжелый силуэт цепенеет, каменеет в своей чудовищной неподвижности прямо у меня на глазах.