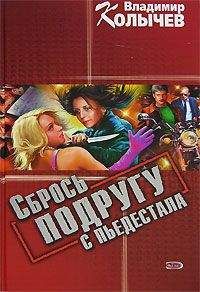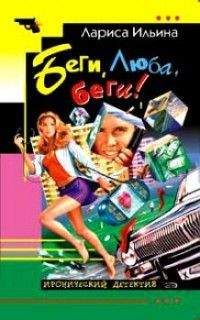Артур Филлипс - Прага
На другой день рано утром он набрасывается на записку от Верха Патетики, которая ждет на его столе со вторника, когда в Нью-Йорк отправился Чарлзов отчет, — уже четыре дня:
Чарли — По типогр. центр отмашки не д. По нулям, малыш. Никак. Облом. Парень даже не венгр. Австриец. Австрийская компания, Чарли. Чего хорошего, если первая сделка будет с шайкой австрийцев, а? Должен сказать: думаю, тебе надо было сообразить.
Чарлз прижимается лбом к еще прохладному окну и проводит десять минут в гадливом размышлении о всесокрушающей глупости ВП. Потом он что-то пишет в желтом блокноте, чертит шквал прямых стрел с большими заштрихованными треугольными наконечниками, которые летят от одной небрежной сокращенной надписи идеи к другой, обрываясь двумя затейливо прорисованными вопросительными знаками. В любом случае, это уже часть плана. Чарлз заказывает разговор с другом-юристом и еще один — с Государственным приватизационным агентством. Наконец, после четырех минут вынужденной медитации в яростном ожидании гудка международного вызова, Чарлза соединяют с Имре Хорватом в Вене.
— Jó napot, Horváth úr, — бодро начинает Чарлз. — Gábor Karoly beszél. Jó hírem van. (Есть хорошие новости).
— Это немного сложно, по сделке, — двенадцать часов спустя говорит Чарлз Джону Прайсу, который лежит в кабинете Габора на кушетке и смотрит, как закат меняет цвета стеклянного неба над головой Чарлза.
— Слово, которое ты ищешь, — ложь. Ты лжешь. Это ложь.
— Это кошмарный и затертый термин. — Золотые божественные солнечные лучи бьют сквозь серебряные тучи и окружают силуэт Чарлза лучистым ореолом, на который Джону приходится щуриться. — Только одолжи мне достоверности, которая мне достоверно полагается, и все получится. Заметь: в эти выходные я нанял горничную, повара и садовника, — говорит Чарлз. — У меня есть штат. Не самый ли это смешной анекдот, который тебе приходилось слышать? Штат. Задача такая: помоги мне убедить Хорвата, что я — тот, кто ему нужен, а позже мы объясним прискорбную позицию фирмы. Когда будет легче воспринять весь юмор ситуации.
— От нашего общего друга я понял, что вы — набирающий известность и уважаемый журналист, — сказал Имре Хорват, когда Джон три дня спустя подсел в «Гербо» к Имре и Чарлзу, чтобы принять участие в заключительной половине их встречи за молоком и кофе соответственно. — Моя семья в вашем газетном бизнесе шесть поколений, — продолжает издатель. — Я рассчитываю, что мы в недолгом времени вернемся к этому направлению в Будапеште.
Когда Джон уселся на горячей террасе, его самой первой реакцией на Имре — меньше чем через тридцать секунд после встречи, — был трепет, непроизвольный эмоциональный и физический ответ, который Джон ощущает в позвоночнике и в копчике, в ладонях и в предплечьях, в щеках и почках. После Чарлзовых глумливых описаний Имре застал Джона врасплох; во плоти Хорват оказался внушительной фигурой, а обрывочные слухи о страданиях, которые упоминал Чарлз, помещали венгра в совершенно иную категорию людей.
Конечно, себя Имре воспринимает серьезно, через минуту понимает Джон, пытаясь вырваться из удушающего, недопустимого трепета и острой зависти. Имре говорит об очень скучных вещах — старых методах производства газеты — но мысли Джона странствуют по прериям зависти к тем, кто проверял себя самой жестокой проверкой своей эпохи и оказался достойным.
— Конечно, в какой-то миг я удивился, когда АВО вломились в двери, — говорит Имре, и Джонова зависть тут же маскируется, к выгоде хозяина, под чувство более достойное и вкусное: презрение: Джона возмущают тщетные и очевидные усилия Имре внушить зависть и восхищение. Он начинает удовлетворенно различать дыры в историях Имре, его богатый костюм, его монументальное желание произвести впечатление.
Так что теперь Джон с удовольствием берется за дело, которое ему поручил Габор. Ложь расцветает без усилий. Джон проталкивает разговор, как только может далеко и быстро, подзадоривая Чарлза не отставать.
— Что это за драматург, которого ты всегда цитируешь, Карой? — спрашивает Джон. — Парень, который писал злые сатиры? Хорн, да? Что ты нам читал на прошлой неделе?
— Изумительно! — восклицает Имре. — Его сочинения наша семья печатает с самого первого издания, все пьесы.
— А что там с твоим намерением финансировать театр, Карой? — спрашивает Джон у Чарлза. — Имре, Карой часто говорил мне, что в венчурные финансы его привела прежде всего любовь к культуре и стремление к цивилизации, — слышит Джон свой голос, пока Чарлз откусывает булочку. — Донкихотство, но искреннее. В своем очерке о его работе я хочу показать, как он всегда стремился использовать капитал, чтобы продвигать культуру. До сих пор его разочаровывало шаблонное мышление тех, кто его окружал. Думаю, он не понимает, какой редкой ясностью видения обладает.
— Мы на это полагаемся, — интонирует Хорват. — И я рад слышать, что я не единственный, кто видит в нашем Карое эти способности и обещания. Вашим читателям, мистер Прайс, должно быть интересно, какие успехи могут прийти к молодому, энергичному и просвещенному человеку, такому, как мистер Габор Особенно сейчас. Особенно в Венгрии.
— Вот именно. Что мне кажется поразительным в Карое, — Джон решает использовать Чарлзов nom de guerre[58] как можно чаще, — это его грамотность в профессии, лишком часто нажимающей на «итого». Карой — старомодный тип, европейский тип, но и замечательный коктейль венгерской культуры и американского воспитания. — Джон замолкает, чтобы прикурить, и делает вид, что подыскивает слова, хотя чувствует в себе потрясающую способность к объяснению; он мог бы выдавать эту ерунду крупными порциями, не останавливаясь даже набрать воздуху. — Сначала джентльмен, а потом бизнесмен, таков наш Карой. Дивлюсь, есть ли еще в нынешнем мире место для таких экземпляров. Можно только надеяться, не смея верить.
— Полегче, убийца, — говорит Чарлз, когда Имре отлучается. — Давай капельку потише. А то ты выражаешься, как его венгерские лизоблюды в Вене.
— Карой сказал, вы возвращаетесь в Венгрию с довольно обширными планами, — говорит Джон, когда Имре вновь садится за стол.
— У нас на уме действительно есть проекты, сэр. Перед вашим приходом мы с ним обсуждали разные возможности. — Имре скрещивает руки на груди и слегка склоняется к Джону: — Я подозреваю, история и будущее нашей фирмы могут быть очень интересны вашим читателям, — говорит он с серьезной миной, и Джон про себя клянется не отводить глаза первым, хотя становится уже почти невозможно не уклониться от этого бледно-синего взгляда. Собеседники выходят из «Гербо» и идут по проспекту Андраши, следуя своим пересекающимся планам: Имре пытается рассказать американскому журналисту достойную внимания историю своей фирмы; Джон пытается повеселиться и продать старому бизнесмену отполированную, достойную партнерства версию своего новоовенгеренного друга; Чарлз помогает обоим.
Скоро, к своему облегчению, Джон замечает, что вязкий трепет перед Хорватом без остатка сметен освежающим хлестким бризом чистейшего отвращения, хотя Джон называет его ясностью Он очистил свой ум от туманящих дыма и пыли трагической судьбы Хорвата и его самодовольного нравственного достоинства и теперь видит Имре насквозь. Рассказы этого человека были притчами себялюбия, грубой и беззастенчивой саморекламой. Хорват, очевидно, сам состряпал себе эту репутацию и теперь всем ее навязывает:
— Оооо, сэр, ответственность — вот что я понимал. С тех пор как я был маленький мальчик, мне говорили про ответственность нашей семьи перед страной и про бремя, которое мне придется нести. «Народная память» — так назвал нашу типографию Больдижар Киш, и отец часто повторял это мне. Я знал, что однажды буду отвечать за сохранение этой памяти. Вы знаете Киша? Нет? Крупный революционный лидер за демократию. Он написал стихотворение, где говорится, что наша типография рассказывает историю венгерского народа самому народу и миру Мы помним за народ. Наверное, как вы, евреи, со своим Песахом. Но наша история еще пишется, это не старинные легенды о фараонах.
И здесь Джон, не успели они, гуляя по Андраши, дойти хотя бы до Оперы, уже сорвал, высушил и вклеил Имре в свой гербарий, точно как описывал Хорвата Чарлз: напыщенным, самодовольным, гордым тем клеймом добродетели, которое случайно ему досталось в исторической лотерее, и (Чарлз позабыл об этом упомянуть), видимо, записным антисемитом.
Однако спустя два вечера Джон сидит слева от Имре за обедом, которым угощает Чарлз, и ему уже не так легко сгуртовать свои чувства.
— Мистер Хорват, это мой друг Марк Пейтон, знаменитый канадский социолог и историк, — так Габор представил последнего прибывшего, и с той минуты, как все четверо уселись в отдельном обеденном зале швейцарского ресторана в Городском парке, Джон отмечает, с какой огромной скоростью его отвращение к Хорвату сменяется очарованием и спокойными периодами чистого уважения, отмечает в себе неспособность решительно записать Имре в несерьезное.