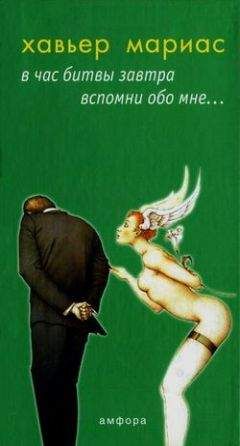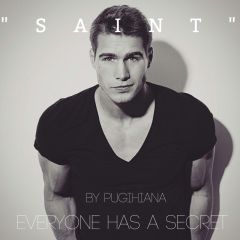Хавьер Мариас - Дела твои, любовь
Он поднялся с кресла, словно давая понять, что закончил свой рассказ или что не хочет его продолжать. Я никогда не видела — хотя так часто на них смотрела, — чтобы его губы были так бледны. Он выглядел усталым и подавленным. Взгляд был полон тоски и безысходности. Он казался обессиленным, словно выполнил тяжелую работу, потребовавшую огромного напряжения, — может быть, поэтому он в начале разговора закатал рукава рубашки? Наверное, таким же обессиленным чувствует себя человек, который только что нанес другому девять ударов навахой. Или десять. Или шестнадцать.
"Да, убийство, — подумала я. — Всего лишь убийство".
IV
Больше, как я и предполагала, мы с Диасом-Варелой наедине не виделись. Прошло много времени, прежде чем мы встретились снова. Встреча была случайной, и он был не один. Все это время — с того дня, как мы расстались, — я каждый день и каждую ночь думала о нем. Сначала эти мысли не отпускали меня ни на минуту, потом стали приходить немного реже. Он наверняка считал, что нам больше не о чем говорить, что он полностью выполнил свою задачу, дав мне объяснения, которых никогда и никому давать не собирался. Он допустил оплошность, поступил неблагоразумно, и ему пришлось рассказать Благоразумной Девушке (не так уж я и молода, чтобы называть меня девушкой) ту ужасную и мрачную историю — свою историю, такую, какую он мне изложил. После этого ему уже не нужно было поддерживать со мной отношения — выдерживать мой испытующий взгляд, рассеивать мои подозрения, отвечать на неприятные вопросы, бояться моего молчаливого осуждения. По тем же причинам и мне не хотелось видеться с ним — наши свидания проходили бы в слишком мрачной атмосфере и были бы болезненны для обоих. Так что он мне не звонил, и я ему тоже. Мы расстались не прощаясь — наступил конец, который ничто не могло отсрочить: ни взаимная физическая тяга, ни моя безответная любовь.
Наверное, на следующий день после нашего разговора его одолевали противоречивые чувства: с одной стороны, он испытывал облегчение, с другой — появились основания серьезно опасаться меня, потому что теперь, после того как выслушала его исповедь, я знала слишком много. Впрочем, опасения его были напрасны: сейчас мне куда труднее было бы поделиться с кем-то своим знанием — у меня не было никаких доказательств. Мне тоже было нелегко: подозревать, строить предположения, делать выводы (пусть иногда скоропалительные и несправедливые) все же гораздо легче, чем знать две версии и теряться в догадках, какая из них правдива, а точнее, сознавать, что обе эти версии навсегда останутся в моей памяти, будут сосуществовать, пока я, измучившись, не избавлюсь от обеих, не забуду их. Все, что нам рассказывают, остается в нашем сознании, становится его частью, даже если мы сомневаемся или просто не верим, что то, о чем нам рассказали, произошло на самом деле, даже если наверняка знаем, что это выдумка (если речь идет о фильме или романе, как в случае с историей полковника Шабера). Диас-Варела, соблюдая классические каноны, рассказал то, что должно было являться правдой, в конце, а вначале изложил то, что должно считаться ложным.
Но это не значит, что вторая, более поздняя, версия вытеснила первую, исходную. Она тоже была рассказана, и хотя впоследствии ее опровергли, доказали ее ошибочность, она все равно осталась в памяти. А еще в памяти осталось то, что мы в нее верили, когда слушали ее, когда принимали ее за правду, когда еще не знали, что дальше последует опровержение. Все, что мы когда-то слышали, вспоминается нам потом. Вспоминается если не наяву, то в полудреме или во сне, и там порядок изложения уже не важен, и та версия, которую изобличили как ложную, продолжает напоминать о себе, продолжает волновать нас — словно ее похоронили заживо или словно она — восставший из гроба мертвец, который на самом деле и не умер вовсе — ни под Эйлау, ни по дороге домой, который не был повешен на дереве или еще где-нибудь. Рассказанные нам истории подстерегают нас, являются нам иногда, словно привидения, и нам начинает казаться, что того, что мы знаем, недостаточно, что самый длинный разговор был слишком коротким, а в самом детальном объяснении были пробелы, что нам следовало еще о многом спросить и слушать следовало более внимательно, обращая пристальное внимание не только на то, что нам говорят (словами обмануть легче), но и на то, как это говорят. Мне даже пришла в голову мысль разыскать доктора Видаля. Его легко было найти по второй фамилии — Секанель. Я даже выяснила с помощью интернета, что он работает в организации под названием Англо-американское медицинское объединение — забавное название! — головной офис которой находится на улице Конде-де-Аранда в районе Саламанка. Я могла бы записаться к нему на прием и попросить, чтобы он послушал меня через стетоскоп и сделал электрокардиограмму — в наши дни все заботятся о своем сердце. Но детективные расследования не для меня — я в сыщики не гожусь. К тому же я понимала, что это был бы бессмысленный и опасный шаг: если Диас-Варела счел возможным назвать мне имя доктора, то это означает лишь одно: доктор Видаль подтвердит его версию, не важно, правдива она или нет. Может быть, этот Видаль — старый друг Диаса-Варелы, а вовсе не Десверна, может быть, его предупредили о моем возможном визите и о том, что мне нужно отвечать, если я начну задавать вопросы? К тому же он имел полное право не позволить мне ознакомиться с историей болезни (которой, вероятно, и не было никогда): во-первых, существует врачебная тайна, а во-вторых, кто я такая, чтобы он мне ее показывал? Для этого нужно было бы прийти к нему вместе с Луисой, чтобы документ потребовала она. Но Луиса не знала того, что знала я. Она ничего не подозревала, и я не могла вот так взять и открыть ей глаза — это означало бы взвалить на себя слишком большую ответственность. Нелегко принять решение открыть кому-то глаза на то, чего он, вполне вероятно, совсем не хочет узнать, а хочет он это знать или не хочет, становится понятным лишь после того, как все уже рассказано, когда зло уже причинено и ничего нельзя исправить. Нельзя вернуть свои слова обратно, нельзя повернуть время вспять. Тот Видаль мог оказаться еще одним соучастником — возможно, он тоже был многим обязан Диасу-Вареле, возможно, тоже сыграл свою роль в преступлении, которое тот совершил. Да, идти к Видалю было незачем: прошло уже две недели с тех пор, как я подслушала тот разговор, у Диаса-Варелы было достаточно времени, чтобы продумать и подготовить рассказ, который меня если не "обезвредит", то, по крайней мере, успокоит. Он мог пойти к тому же кардиологу и спросить его под любым предлогом — писатели, с которыми наше издательство сотрудничает (начиная с самодовольного Гарая Фонтаны), то и дело обращаются за консультациями к специалистам в разных областях, — какая ужасная, приносящая невыносимые страдания смертельная болезнь способна заставить человека предпочесть покончить с собой или умолять друга помочь ему это сделать, если сам он не в силах на такое решиться. И тогда Видаль — если он человек честный и наивный — дал бы Диасу-Вареле интересующие его сведения, а тот был бы уверен, что я никогда не пойду его проверять. Даже если мне очень захочется. Так, собственно, и случилось: мне очень хотелось пойти к Видалю, но я к нему не пошла. Я подумала, что Диас-Варела знает меня куда лучше, чем я полагала, что в то время, когда мы были вместе, он был не таким рассеянным, каким мне казался, что он изучал меня и изучил неплохо. Эта мысль была мне, как ни странно, даже приятна. Впрочем, странного здесь ничего нет: я его все еще любила — любовь не проходит внезапно, не кончается вдруг, не превращается в один миг в ненависть, презрение или стыд: чувства должны преодолеть долгий путь, для того чтобы они превратились в свою противоположность. Самый трудный этап этого пути — тот, когда чувства смешиваются, скрещиваются, проникают одно в другое. И любовь не кончается, пока ее полностью не заменит равнодушие или, лучше сказать, отвращение, пока человек не скажет себе: "Зачем возвращаться к прошлому? Мне лень даже думать о том, чтобы снова встретиться с Хавьером. Мне лень даже вспоминать о нем. Нужно выкинуть то время со всеми его загадками из головы. Забыть, как страшный сон. Это совсем нетрудно, потому что я уже не та, что была раньше. Жаль только, что, несмотря на то что я изменилась, я иногда вспоминаю себя такой, какой была прежде. И тогда мне становится неприятным даже собственное имя, и я больше не хочу быть собой. Но все же воспоминание, даже если оно терзает душу, доставляет меньше неприятностей, чем живой человек. К тому же мое воспоминание о Хавьере не терзает мне душу. Совсем не терзает".
Размышлять обо всем этом я начала не сразу, что вполне естественно. Я снова и снова мысленно возвращалась к тому, что услышала от Диаса-Варелы, к тем двум версиям (если их действительно было две). Находила и в той, и в другой необъяснимые (или необъясненные?) детали. В любом рассказе есть пробелы и недоговоренности, в любом можно найти противоречия. Ни одна история — не важно, выдуманная она или реальная — не может быть рассказана так, чтобы в ней все и до конца было логично и ясно.