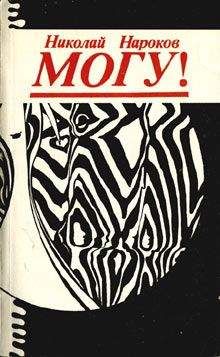Николай Нароков - Мнимые величины
Софья Дмитриевна взяла Шурика за плечи и подтолкнула его:
— Поздоровайся же, Шуринька, с дедушкой! Вот дедушка-то и опять, слава Богу, домой вернулся.
Шурик, не привыкший здороваться с Григорием Михайловичем и быть ласковым с ним, очень неловко подошел с детской застенчивостью и остановился, глядя на Евлалию Григорьевну. Григорий Михайлович посмотрел на него и положил ему руку на голову.
— Да, да! Шурик! Да, здравствуй! — опять заулыбался он, не зная, что ему делать с рукой, которую он положил на голову внука. Он притворился, будто что-то вспомнил, и поскорее полез рукой в карман, словно там ему было что-то нужно. И вдруг что-то нащупал: это была та коробочка с папиросами, которую ему ночью дал Бухтеев. Он резко и отрывисто дернул рукой и кинул на стол эту коробочку: кинул так, будто руке было противно держать ее. И по лицу пробежала тень страха и боли.
— Это… Это… — забормотал он. — Ты выкинь это! — нервно повернулся он к Евлалии Григорьевне. — Обязательно! Сейчас же!
Евлалия Григорьевна не поняла. Она взяла коробочку и приоткрыла ее.
— Здесь папиросы! — не то спросила, не то объяснила она.
— Да! Папиросы! Да! Ты их выкинь, выкинь! Они…
Софья Дмитриевна, словно что-то поняв, очень решительно взяла из рук Евлалии Григорьевны коробочку и спрятала ее в своей руке: спрятала от Григория Михайловича, чтобы он не видел.
— Сейчас, сейчас! — успокоительно заверила она — Сейчас вот выкину!
Она повернулась и пошла было из комнаты, но, сделав два-три шага, о чем-то догадалась и даже всплеснула руками.
— Да ведь о чем же мы думаем! — упрекнула она и себя и Евлалию Григорьевну. — Григорию-то Михайловичу надо ведь и помыться, и побриться, и себя в порядок привести… А потом покушать и отдохнуть! Намучились вы, поди, страх! — намекающим тоном сочувственно добавила она. — Я, голубенькая, сейчас ванну устрою Григорию Михайловичу, а вы здесь уж распорядитесь: белье чистое достаньте, завтрак приготовьте… Ну, и водочки для-ради такого случая совсем не грех выпить! И я выпью с вами, обязательно выпью!.. С удовольствием!
Евлалия Григорьевна почти обрадовалась: начать что-то делать и заботиться было легче, чем пытаться говорить с отцом. Она собрала чистое белье Григорию Михайловичу, вытащила из шкафа его платье, постелила постель и (с немного лукавым видом) остановилась, задумавшись: что бы такое особенное приготовить к завтраку? Но, делая все это, она молчала, ни о чем не спрашивала отца, а ограничивалась только тем, что неопределенно бормотала:
— Ну, вот… Ну, вот так… Это будет хорошо!
Григорий Михайлович принимал то, что есть, не вдумываясь и не оценивая: принимал пусто. Он не ощущал радости, а одно только успокоение, но какое-то вялое и бессодержательное. Он встал, машинально снял пальто (он все еще сидел в нем), повесил его на привычное место и прошел за ширму к своей кровати. Сел на нее и задумчиво стал расшнуровывать ботинки.
— Тут твое белье, бритва и платье! — сказала Евлалия Григорьевна. — Приводи себя в порядок, а я покамест в лавку схожу. Купить тебе водки, в самом деле? — шутливо спросила она, стараясь казаться веселой, но вздрогнула и насторожилась: из-за ширмы послышались всхлипыванья.
— Если б ты знала! Если б ты знала! — дрожащим голосом еле выговорил Григорий Михайлович.
Он многое вкладывал в эти слова. Он вкладывал в них и жалобу на пережитое в эти дни, и невысказанное признание в новом чувстве к дочери, и мольбу о прощении, и жажду раскаяния в прошлом… Евлалия Григорьевна, конечно, не могла понять и охватить весь этот смысл его дрожащего всхлипывания, но у нее сжалось сердце, и опять жалость до боли пронизала ее всю. Она быстро подошла к ширме, слегка отодвинула ее и уже безо всякого усилия посмотрела на отца.
— Тяжело было? — тихо, почти шепотом спросила она, глядя на него с искренним состраданием.
Он ответил страдальческим взглядом, но не сказал ни слова. Шурик, ничего не понимая, очень заинтересованно посмотрел на мать, а потом на дедушку и, что-то почувствовав, наморщил бровки, как будто собрался заплакать.
— Да! Да! Да! — не на ее вопрос, а на что-то другое ответил Григорий Михайлович. — Это… Это… Об этом — потом!
— Да, конечно, потом! — сразу согласилась Евлалия Григорьевна, по-своему поняв его слова. — Конечно, потом. Но… Но… Но ведь все уже кончилось! Все ведь уже, слава Богу, кончилось! — убеждая его, добавила она. — Конечно, все это ужасно, но ведь оно же прошло, оно ведь совсем прошло!
Он поднял глаза, но сейчас же опустил их.
— Да, прошло… — беззвучно согласился он.
Евлалия Григорьевна немного нерешительно постояла несколько секунд у ширмы. Григорий Михайлович перестал всхлипывать, и чувство жалости к нему отхлынуло у нее от сердца. И ей показалось, что в ней опять зашевелится желание, чтобы Григория Михайловича не было в этой комнате.
— Так я куплю тебе водки! — нашла в себе силу почти весело сказать она.
— Да, купи… Спасибо! И… — поднял он на нее глаза, — и, пожалуйста, если можно, купи четвертушку семги!..
Он попросил, но тут же спохватился и нервно задвигался по кровати. Опять тень боли пробежала по его лицу.
— Нет, нет! — замахал он рукой. — Нет, это ведь я только так… Не надо семги! Понимаешь? Это ведь я только так!..
— Почему не надо? — с веселой бодростью сказала Евлалия Григорьевна. — Ради такого дня. А еще чего тебе хотелось бы?
— Нет, нет! — даже испугавшись чего-то, замотал головой Григорий Михайлович. — Нет, не надо! Ничего не надо!
Он побрился, вымылся и надел чистое белье. Все это было очень простое и очень обыкновенное дело, которое он делал сотни и тысячи раз. Но сегодня каждое движение имело для него, кроме обычного смысла, еще смысл и необычный: когда он брился, он скреб себя бритвой с отвращением, потому что ему казалось, будто он соскребывает с себя то, что оставалось на лице «оттуда». А когда он мылся в ванне, то явственно ощущал, как он смывает с тела то, что налипло на него «там»: не грязь, а тоскливую муку, маетный страх и давящее зло. Он пристально и брезгливо оглядывал свою кожу на груди, на животе и на ногах, придирчиво морщился при каждом пятнышке, тер его мыльной мочалкой и, уже совсем вымывшись, захотел обязательно вымыться еще раз, «набело».
Но в этом обыкновенном деле было еще и другое. Григорий Михайлович делал привычные движения, скреб бритвой или намыливал мочалку, но ему казалось, что он все это делает как-то «в первый раз», по-иному, не так, как было когда-то. Все, что было когда-то, было в той прежней жизни, которая отгорожена камерой смертников и полутемной оранжереей. Со всем тем он вроде как бы простился, считая себя тоже мертвым, и, вернувшись опять к бритве и к мылу, смотрел на них удивленно: неужели же можно снова бриться и мылиться? Неужели можно вернуться к простым делам простой жизни?
После завтрака Евлалия Григорьевна увела Шурика к Софье Дмитриевне и сама ушла туда.
— Мы не будем тебе мешать, отдыхай спокойно, сколько хочешь! — сказала она, стараясь говорить приветливо и ласково.
Григорий Михайлович лег на свою кровать, с удовольствием чувствуя, что это та кровать, которая еще день тому назад казалась невозможной. Он сначала подобрал под себя ноги и лег калачиком, но сейчас же вытянулся: так приятно было и подбирать ноги, и вытягивать их по своему желанию, «как хочу». Он даже засмеялся про себя, вспомнив тесноту камеры.
Но вдруг остро, ярко и совершенно отчетливо в мозгу вспыхнула требовательная мысль: «Евлалия!»
«Евлалия? Что — Евлалия?» — растерянно спрашивал себя Григорий Михайлович. Мысль не складывалась в вопрос и не выражалась словами, но определяла себя только ощущением. Там, в камере, мысль о дочери была дорога и душевна, но здесь, дома, эта мысль стала тяжелой и пугающей. Раскаяние, которое так искренно охватило его «там», здесь потускнело, сделалось фальшивым, лишним и ненужным. Даже слова «Лалочка» не говорил себе Григорий Михаилович. «Как это странно! Как все это странно!» — с напряжением следил он за собою, не понимая, почему другой и далекой стала здесь для него Евлалия Григорьевна. «Разве любить можно только… там? — неопределенно думал он. — Почему любить можно только там? А ведь там все любят: и друг друга и… вообще!»
Глава XII
Супрунов сказал Любкину: «Трещинка в тебе уже есть!» Любкин возразил: «Это тебе только так кажется!» Но сам Любкин после этого разговора несколько раз вспоминал эти слова Супрунова и уж по одному тому видел, что в словах этих что-то есть: трещинки в нем еще нет, но какая-то заноза сидит и мешает.
То, что он называл занозой, было очень сложно и не во всех своих частях понятно. Многое только чувствовалось, ощущалось, но никак не могло определиться.
Любкин был партийцем, коммунистом, но он не скрывал от себя, что коммунизм перестал его интересовать и сделался совсем ненужным. «Это все одна теория!» полупрезрительно думал он. Раньше, в первые послереволюционные годы, у него от одного только слова «коммунизм» захватывало дух: глаза зажигались сами собою, и кулаки сжимались тоже сами собою. Но теперь слово «коммунизм» звучало мертво: «Это все одна только теория!» И когда он, во время великого голода тысяча девятьсот тридцать второго года, побывал на Украине и в Молдавии, он не смутился: голод, быть может, противоречил коммунизму, как теории, но этот голод совершенно свободно и без насилия вкладывался в ту «практику» большевизма, которую (одну только ее) ценил Любкин.