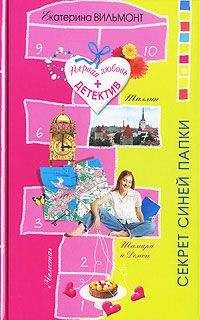Ксения Велембовская - Дама с биографией
Ругать и презирать себя за полное отсутствие чувства собственного достоинства уже не имело никакого смысла. Не выбежав следом, Марк яснее ясного дал понять, что вовсе не нуждается в ее прощении, что она ему вообще больше не нужна, что ее пора вышвырнуть на помойку. Как старую, потрепанную вещь. Как надоевший хлам. Мусор. Что, в сущности, он и сделал. Быть может, даже расхохотался, когда, выглянув из приоткрытой двери, увидел, как она в панике несется вниз по лестнице. А потом с брезгливой усмешкой пояснил гостям, прервавшим свою скотскую пляску из-за шума в прихожей, что это одна маниакально ревнивая идиотка, от которой ему нет покоя ни днем ни ночью. И сейчас они всей компанией — пьяные проститутки, подобранные в каком-то кабаке, гнусный павиан Гриша (кстати, известный ревнитель нравственности, который на профсоюзных собраниях Москонцерта часами разглагольствует о высоком моральном облике советского артиста, стращая молодежь увольнением за аморалку) и «прекрасный принц» — вовсю потешаются над ней и, поменявшись партнерами, продолжают сладострастное совокупление.
«Ничтожество, мерзавец, ненавижу!» — трясущимися от гнева губами прошептала Люся и, опять зарыдав, в отчаянии обхватила голову…
Поскуливая, как побитая собачонка, она глотала слезы, проклинала Марка, горько плакала и снова проклинала, но теперь уже саму себя — самоуверенную дурочку, не желавшую никого слушать. Подумать только! Ради этого чудовища она чуть не отреклась от собственной матери, предала лучшую подругу. И не единожды. Сколько раз она обсуждала Нонку с Марком и подленько смеялась, когда на кокетливый вопрос: «А почему ты все-таки выбрал меня?» — он ухмылялся: «Потому что ты — Лю, а она — Но!»
Двухкопеечной монеты в кармане не нашлось, и она бросила в автомат пятнадцать.
— Нонн, это я… Люся… Артемьева.
— Ой, при-ве-е-ет, — удивленно протянула Нонка.
— Ты прости меня, если можешь, пожа… — Голос сорвался от слез, и Нонка испуганно закричала:
— Люська, ты что?! Что там с тобой?! Ты вообще где?!
— На Ленинском… во дворе… я… меня… он меня выгнал…
— Да ты что? Вот скотина! Умоляю, не реви! До универмага «Москва» доползешь?
— Да, но…
— Жди, где встретились в прошлый раз! Мы будем там через пятнадцать минут!.. Петюха, срочно заводи мотор! — громко скомандовала Нонка своему Пете и с сочувствием проговорила в трубку: — Люсь, потерпи, не плачь, мы уже выезжаем.
Та ночь длилась бесконечно долго. Вечность. Вечность, которая отделила одну жизнь от другой. Уединившись вдвоем на кухне, они с Нонкой пили коньяк из граненых стаканов. Закусывали огненными пельменями из одной глубокой тарелки и остатками холодной жареной картошки прямо со сковороды. С давно забытым наслаждением, обжигаясь, Люся хлюпала соленым пельменным соком, скоблила вилкой по чугунной сковороде, грызла пригоревшую картофельную корку. Какая теперь разница, худая она или толстая? Все равно Марк ее разлюбил…
При воспоминании о растоптанной любви и своей загубленной жизни, моментально, с двух глотков опьяневшая, она откладывала вилку и начинала рыдать. Нонка подливала ей коньяку и, раскурив очередную сигарету в сизом дыму крохотной кухни, разъедавшем и без того красные от слез глаза, утешала преимущественно с помощью мата. Обычный телевизионный мат, от которого за несколько лет Люся уже отвыкла, поначалу ужасно коробил. Марк никогда не ругался матом, говорил: матерщина — удел плебеев с ограниченным словарным запасом. Он всегда презирал плебеев… и ее, плебейку, в глубине души, видимо, тоже презирал… поэтому и бросил. Вышвырнул на улицу, в темноту, под дождь… как собаку…
— Прекрати ты, Люсь! Тоже мне, нашла аристократа! Да он сам рвань! Бездарная рвань с гигантскими понтами. Подумаешь, сынок крупного партийного работника, какого-то дремучего долдона от сохи, и молдаванской б…, продавшейся за обкомовский паек! Твое здоровье, Люськ!
Они снова чокались, обнимались, и Люся заплетающимся языком опять и опять принималась рассказывать, как страшно она переживала, что с Марком что-то случилось, как бросила больную маму и больную Лялечку, примчалась к нему, зашла в квартиру, а там — оргия…
— Вот твари! — не уставала громко возмущаться Нонка.
— Скажи, а ты правда видела его тогда на премьере во МХАТе? Нет, это правда, правда? — по десятому разу спрашивала Люся.
— Клянусь своим здоровьем! — била себя в грудь Заболоцкая и не скупилась на всё новые и новые комментарии. — Ну, думаю, ваще обнаглел, гнида! При живой Люське взял и притащил с собой на премьеру постороннюю девку. Я, естественно, потом навела справки — никто из наших эту шлюху не знает… Но, если б ты меня спросила, я бы сказала, что она стюардесса. Тип такой. Длинноногая, смазливая, но жутко простоватая, крашеная блондинка. Ноль эмоций на фейсе. Мозгов, сразу видно, ни х… Точно, Люськ, «Ту-104» идет на посадку! У-у-у-у-у! — загудела тоже абсолютно косая Нонка, и ее рука лодочкой стремительно спланировала вниз.
Стюардесса?! Такой вариант не приходил Люсе в голову, а между тем он многое объяснял: похоже, Марк действительно вылетел из Геленджика ближайшим рейсом, но в самолете познакомился со стюардессой и влюбился в нее без памяти. Поэтому-то он и вернулся домой не раньше своего письма, как обещал, а через два дня после письма.
— Точно! — припечатала Нонка, хлопнув ладонью по столу. — Заклеил эту аэрофлотовскую дешевку на обратном пути, а потом утюжил ее где-то на стороне.
— Но у него в чемодане были мокрые плавки и полотенце! — со слезами взмолилась Люся, еще более несчастная, чем минуту назад: значит, Марк изменил ей не сегодня, а гораздо раньше и бессовестно лгал той ночью, когда они выясняли отношения, и тем счастливым безоблачным утром тоже.
И вдруг она отчетливо вспомнила, что у его партнерши по голым пляскам были длинные черные волосы. Они спадали с ее запрокинутой головы почти до самого пола… То есть он не любил ту стюардессу?
— Твою мать! При чем здесь любовь, честное слово?! — возмутилась Нонка. — Поднадоела бортпроводница, снял другую шалаву… длинноволосую… Бабник — он и есть бабник. Что с него взять? Но каким же надо быть редкостным говном, чтобы так поступить с тобой!
Время от времени на кухню заглядывал Петя. Ну, Петя и Петя, ничего особенного. На улице, в шапке и в куртке, вроде бы еще более или менее представительный, а в домашней обстановке — вообще никакой. Плотный, лысоватый дядька в затрапезном тренировочном костюме. С Марком не сравнить.
— Пожалуйста, не матерись на всю квартиру, — сердито бурчал он. — Юрий Борисович, кажется, еще не спит.