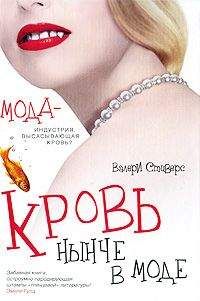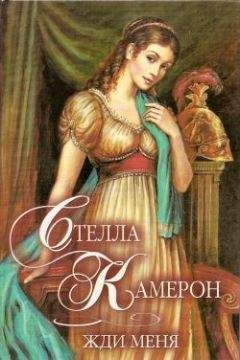Владимир Гусев - Дни
Куба: предельность ее природы; борьба природ. Связано ли это одно с другим?!
Я доволен: с Пудышевым все ясно; что касается книги, то нас везет на своей машине Солер Гавилон.
Гавилон — орел.
Мы петляем по желто-пыльно-меловым — вроде Геленджика, что ли! — улицам, выезжаем за город не за город, а на пустырь; особая сила влечет меня в места, не предназначенные заранее для моего, для «постороннего» взора; все кажется — тут-то и…
Куба, полдень Земли; но Северное полушарие.
Куба, середина Земли; но Северное полушарие!
Мы выезжаем к этому пустырю, видим холм.
— Вон дом, — говорит Солер на своем кубинском испанском; casa — casa; Солер — местный энтузиаст, краевед, журналист, знаток: в каждом периферийном городе во всем мире есть такая фигура; он — человек этих закоулков, тени, уюта и тайн.
Мы лезем на холм; огромные ха́гуэи; кусты, деревья — не знаю названий; правда, вот орех…
Кусты, деревья; забор ветхий; в доме живут — Солер ушел на переговоры; он стоит один на холме — «этот» (как говорят в таких случаях) старый испано-кубинский дом, серо-голубой и вытянутый по верху этого, своего холма; во двор; кадушки прибитых к земле форм, сарайчики, доски струганые и неструганые, лежачие, пристроенные и полуоторванные; просторные конуры, ленивые псы на ржавых цепях; яично-сине-сизые цесарки, краснобородые индюки и индюшки — все пыльные; белье разномастное: веревки туда, сюда.
В дом…
В доме общий патио с унылыми, как бы теневыми стенами и колоннами, и коридоры, и двери в эти коридоры — как в наших общежитиях, коммуналках; заходим в один конец — там толстые мешки с чем-то и древняя мебель — ноги ввысь, и горшки пузатые к верху, и рваными пятнами ржавленая пила, и светло-матовой мертвой сталью раздрызганный у краев молот, и в натужных заклепах обручи; и запах маниоки, муки, и дерюги, и раздерганной старой конопли как растения, а не как уж «обработки»; и еще некие запахи — мыши? годы? пыль? тишь? — которые и есть — «уют, дом».
Не сюда нам, идем мы в иной конец.
Заходим в комнату… следы былого; ванны одна, другая, фигурный кафель по стенам, голубые, паутинно-ажурно треснутые изразцы, темно-зеленые орнаменты; кафель с секретами (объясняет Солер нам) всякими: золотой — из золота! — ободок в том верхнем орнаменте, шипы — секретные знаки, потайные плиты; вперед — вперед; выходит от дальнего балкона-веранды — в дверь виден клок старого Сантьяго — красные и серо-блестящие крыши, кудри кустов-деревьев, то, это, — выходит старик в кожаных шлепанцах со слишком заметно загнутыми к небу округлыми носами-футлярами; в руках — книга… видно, что старая.
Он улыбается темным, в резких, но тонких морщинах лицом; он в колпаке тупом, в джинсовом пиджаке, в черных суконных (!) брюках с путаной в нитках бахромою внизу; но — в золотых же очках: тонкие, блесткие ободки.
— Я обо всем переговорил уж, — торжественно и с достоинством говорит Солер. — Вам ни о чем не надо… он не любит… Он рад.
Выбегают дети — орут между собою, выходит юноша в кофте, в джинсах — идет по делу; смотрят, кивают женщины. Серый блеск воды — в нише.
Так сразу; хорошо.
«Поездка»: все весело; «никаких происшествий».
Куба, Куба.
Летим на самолете — летим уж в вечном свете дневного дня; другие туристы — те отстали в последний миг, так… бывает, — другие туристы шумят, дурачатся в «дурака»; приключения не кончаются; Куба — Куба; стюардесса входит:
— Товарищи, господа; в Лиссабоне буря, с градом — не характерно для города; садимся в Рабате.
— А? Что? — идет вокруг; впрочем, волнения нету.
— Рабат, это где он? — спрашивает игрок Костя.
— Не знаю. Ты ходи.
Они стукают по этому лежащему чемоданику, «грохают» смехом при «не том» ходе, смачно «плюют» в ладонь, прежде чем «вдарить» — положить карту.
— Нам что Лиссабон, что — тьфу! — Рабат. Главное — домой. Пор фавор, — говорит Митя, «лляпая» короля.
— Ты что же это — нна тебе! — такой неграмотный? — возражает Костя.
— Шучу-шучу, — режет Митя. — Но все равно. Ттак мы.
— А мы — нна. Что́?!
— Ах… Ладно. Так.
Между тем некая вовсе уж юная девушка истинно взволнованно смотрит вниз; крепкий малый в мятой ковбойке — тоже; там — облака — странный, чудный, иссиня-округлый, солнечно-вещий мир, небо вверху сине-фиолетовое; в просветах меж облаками — океан… море. (Голубое-белое.)
Рабат встречает желтым, зеленым, летним; я не сразу соображаю, что я впервые — в Африке; абстракции и символика не лезут в голову — существуют отдельно; земля — солнце — земля.
Полет снова; там, пронзительно вниз, желтая, зеленая, коричневая земля безмолвно борется с морем; белая, будто край великого орнамента, — белая, четкая «линия прибоя»; Средиземное море — сердце тайны и духа? Гибралтар? Залив? Не знаем; причудливо — странно; «невычислимо». Рассудок тихо сражается с вечной прихотью и эмпирией вод и суши — и не владеет этим; им все равно — они не видят его борьбы… Гибралтар (карта, знание?)? — но вновь суша; открытое море? Прозевал «жерло»? Но вновь… зеленое, желтое.
Облаков нет; видно вниз.
Видно; но не поймешь…
Летим.
«Едем».
Летим.
Летим.
А это что?
Что это?
Потянулись к круглым окнам; даже картежники приостановились с этими затертыми десятками, с королями в руках.
— Что это?
Постепенно являлось белое… белое.
Черное — и опять белое.
Черные пятна: как от взрывов.
Сплошное белое.
Пяди черного; белое.
Белое.
Синь — февраль…
Конец истории…
Куба…
Предельность ее природы.
2. ЧУЖАЯ
Не люблю я игры на письмах, но делать нечего.
Для начала — письмо подруге Люсе.
«Здравствуй, Люся.
Зря ты уехала в свой этот Ленинград. Здесь у нас весело. Славка зашел, зашли за Колей. Поехали в Серебряный бор, искупались, то-сё, а потом Славка влез на идущий теплоход и прыгнул с верхней палубы. Слегка отбил живот все-таки, хотя прыгнул, в общем, они говорят, правильно. Хорошо было. Ну, я треплюсь, ты понимаешь. Но в общем, действительно хорошо. Почему-то принято, что если «о серьезном», то хорошо, а если людям просто весело, то это не то. Ну, ты все понимаешь. Ну вот. Что тебе сказать? Видимся порою и с Алексеем Иванычем, тебе знакомым. Это, конечно… Человек он… А, не знаю. Как-то он ничего не понимает. Все вроде понимает, а в то же время ничего. «Загадка женщины» и т. п. В сущности, все загадки можно разрешить тремя-четырьмя простыми фразами. И в то же время того реального, чем живет женщина, он не понимает. Все ищет отмычки, а какая отмычка? Это все равно что искать отмычки к какому-нибудь там стихотворению, хотя я не люблю стихов, а люблю музыку: как ты знаешь. Женщина цельна и одновременно текуча по характеру, она неопределенна, а они — такие, как он, — все строят конструкции. Кроме того, женщины разные… Проявил бы лучше себя как… Если бы он проявил простую… Ну вот так. Чем-то он меня злит ужасно. Так бы и убила иногда. Он к тому же считает, что бездетность разрушила женщину, что природа ищет выхода, что если б мы рожали по 10—12, то все и пришло б у нас в норму, даже секс («чувственность», он мне говорит). А почему же тогда женщина само состояние беременности воспринимает как больное и ненормальное? А вообще все равно, как ты понимаешь. Треплюсь я. Живем весело. Приезжай-назад, чего ты там? Тут эти так и крутятся, на все готовы. А впрочем, ты понимаешь… ну, всего тебе.
Ира».Судьба всего этого повествования — горы и море.
Мы собирались в горы.
Царила бестолковщина, обычная в интеллигентской компании; тот не пошел, у того жена не в духе, тот сам киснет, у того «обувь… что-то…».
Настроение портилось — обычная-то обычная, но, во-первых, и все обычное может портить пафос, а во-вторых, уж слишком тянулось дело. Мы с Алексеем переглядывались издали: не вязались бы мы с тяжелой артиллерией.
Между тем Кызыл-Даг, в его угловатых линиях, резко рисовался на ясном и бледном и скромном небе; солнце уж близилось к Горе-Зубу, и утро, хотя давно уж не было ранним, располагало к возвышенному и бодрому.
Было то кристальное, «прозрачное» солнце, были та общая четкость, скрытая свежесть, свет и голубизна, которыми так могуч предгорный и горный наш юг у моря.
Но это были к тому же и те места, где южная природа не сочна, а строга. И одновременно величественна, как и везде, где горы, море.
Середины гор плыли в мареве коричнево, желто, серо- и голубо-зелено; контуры были, да, и свободны и скупы.
Все это наблюдал я, сто́я в кучке беспокоящихся или демонстративно-благодушных («Стоит ли из-за этого… Приехали отдыхать…») молодых мужчин и женщин; впрочем, некоторые были молоды лишь на современный манер. Ныне «парень» в 35 и «девушка» в 30 — не удивление.