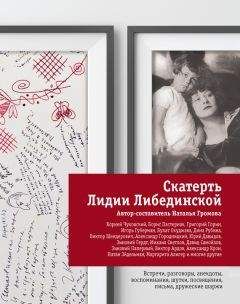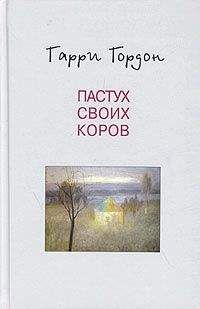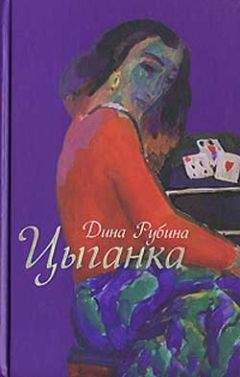Гарри Гордон - Пастух своих коров
С рёвом выскочил из грязи забрызганный Брандгауз, прислонил мотоцикл к дереву, победоносно вытряхнул из холщёвой сумки три бутылки мутного самогона.
Сухая акация горела без дыма, серый день перетёк в серые сумерки, редкие капли падали с листьев, самогонка пилась легко, и опьянение было прозрачным. Были у деда помидоры и кривые огурцы, и белый крошащийся хлеб, и жареные отсыревшие караси, и чёрная редька.
— Хиба це редька, — сетовал дядя Федя. — В моём господарстве такая редька була! Вырастил я как-то для областной сельскохозяйственной выставки. Чтоб и колхоз прославить, и себя не забыть. Ну, вырастил и тащу. А вона не лизе. Кажу: «Ганя, помоги». Ганя вчепилась в мене и тащит. Не лизе. Внучка из школы пришла. Кажу: «Маруся, помогай». Ну, вона в бабу вчепилась. Тяжем. Не лизе. Тут Полкан над вухом як гавкне! Мы тут уси и попадали. Вот така редька була! Як твоя голова. Ни — як твоя!
В темноте дождь зашумел с новой силой. Всё уютнее становилось у костра, просторнее было на душе.
— Дядя Федя! — воскликнул Карл. — А знаешь Коцюбинского?
— Который с базы? То вин — Коцюба.
— Да нет! Слухай:
«Идуть дощи. Холоднi осiннi тумани клубочаться вгорi, опуская на землю мокрi коси. Пливе в сiрiй безвiстi нудьга, пливе безнадiя, i стиха хлипае Сум… Нема простору, нема розваги…»
— Ух ты, — таращил глаза дядя Федя. — Та после таких слов! Все, хлопци, — кричал он, — я з вами! Погорив так погорив! Малювать буду, вирши сочинять буду, песни спивать буду! А вулики зараз геть на дорогу повыкидаю!
Костёр потихоньку догорал, печально угасала песня:
Не дозволю вдову браты,
Не дозволю
Вдову браты,
Вдова вмие чаруваты.
Гауз заснул сразу. Дядя Федя ворочался, сучил ногами по стенке палатки и что-то бормотал. Карл прислушался.
— Идуть дощи, — вздыхал дядя Федя. — Нема простору, нема розваги…
ДЕЛО ЧЕСТИ
Это произведение трудно было назвать плакатом, хоть и нарисованы на нём были белые слова «Хлеб — Родине».
Загорелая белозубая дивчина высоко держала огромную паляницю с хрустальной солонкой на вершине, белое платье её переливалось тяжёлым шёлком, алая вышивка обрамляла загорелую шею.
Густые гроздья винограда, тёмного, как ночь, и белого, продолговатого, касались её плеч, из-под резных листьев высовывались жадные витые усики, розовой косынки касались коричневые груши и мощные яблоки, голубые в тенях и жёлтые на свету, с вплавленным посередине белым бликом. И другие — ярко-зелёные с тонкими красными рисочками. Сверху было синее небо с нарезными, как батоны, облаками. Хрустальная солонка сверкала ломкими лучиками.
Написал эту картину местный художник, сидел долгими вечерами в клубе, не пил, не ел, разве что немножко. Местное начальство любило художника, даже гордилось им, даже портреты иногда заказывало. Лица на портретах получались очень похожие, как живые, тонко выписанные, лучше, чем на фотографии.
Но в райкоме считали, что какой ты ни есть самородок, хоть семи пядей во лбу, а наглядная агитация — дело политическое и приведена должна быть к единообразию и приличной манере, чтобы всё как у людей. Тем более, что выделяются на это немалые деньги.
Карл вздохнул. С каким удовольствием он написал бы что-нибудь подобное, переплюнул бы даже, ей-Богу, только придётся заменить всю эту красоту «приличной манерой» — выкрашенные геометрические пятна, резкие мужественные лица, разобранные по плоскостям. Приличная эта манера называлась ещё «смелой».
— Театр абсурда, — чесал кучерявый затылок Карл. — Власть требует от меня смелости.
Валера Брандгауз разогревал на примусе обед — варёное мясо с рисом и помидорами. Прозрачная тень беседки не спасала от жары. Над левым и правым виском кружило по мухе.
Во двор вошёл незнакомый человек в серой одежде, с круглым лицом и доброжелательным брюшком. В руках у него был рулон ватмана.
— Приятного аппетита, — поздоровался он. — Нет ли у вас кнопок?
Заметив недоумение, он вежливо представился, скинув серую кепочку:
— Зэк Ведмедев. Пять лет с конфискацией имущества. Врач. Избавлял ребят от воинской повинности. Разумеется, за приличное вознаграждение.
В селе Базарьянка было два предприятия — винзавод и тюрьма. Ведмедев отбывает уже второй год, дисциплинирован, пользуется доверием — его даже выпускают погулять по селу, в магазин ли или просто так, глядишь, и освободят досрочно.
Сейчас он делает стенгазету и, узнав о приезде одесситов, не преминул засвидетельствовать своё почтение.
— О нас уже знают в тюрьме? — не поверил Карл. — Да мы здесь третий день!..
Ведмедев усмехнулся и ткнул пальцем в Гауза:
— Вы — Валерий Брандгауз. А вы — Карл.
Работа двигалась. Медленнее, чем нужно, но быстрее, чем хотелось. Жили они в пустующей хате — совхозном общежитии для сезонных рабочих. В полдень порог заливало солнце, как на картине Лактионова «Письмо с фронта». На пороге вспыхивали белые куры с алыми гребешками, гасли, клевали прохладный земляной пол.
На седьмой день Карл проснулся не в духе. Накануне перегорели, одна за другой, обе лампочки, и, чтобы не ложиться рано, пришлось полночи пить вино и глупо, по-студенчески, спорить.
Во дворе под шелковицей сидели Гауз и Ведмедев и неприятно шушукались.
— Просил же, — раздражённо сказал Карл, — сходить с утра за лампочками…
— Хозяйка обещала принести, — быстро, как соврал, ответил Гауз. — Поди сюда, дело есть.
Ведмедев прижимал пухлые пальцы к груди и бессвязно бормотал:
— Ларка… два года… Это невозможно, товарищи… Убью суку, если что…
Его добропорядочное лицо было неприятно. Гауз подошёл к Карлу вплотную. Спина его была выпрямлена, как у кавалергарда на полковом смотре.
— Надо помочь мужику, — тихо сказал он. — Смотри. Сейчас двенадцать. Три часа до Одессы и три обратно. Час там. Я думаю, на больше он не потянет в таком состоянии. Итого — в семь, а поверка у него в девять. Может, даже к ужину обернёмся.
«Какое мне дело до Ведмедева, — размышлял Карл, — и его мудовых рыданий!» Но… быть свидетелем и даже соучастником воплощения несбыточной, казалось бы, мечты…
— Ты хоть знаешь, что за это бывает?
— Или!
— Так чего же ты стоишь!
Ведмедев обхватил Брандгауза толстыми ручками, мотоцикл круто развернулся, поднимая жёлтую пыль…
Часов в шесть Карл бросил кисти в банку с керосином, вытер руки и пошёл гулять. За селом на все четыре стороны была степь, до моря далеко, семь километров, если по дороге. В оранжевом предзакатном мареве голубели бетонные палочки виноградников.
Карл вернулся на главную улицу и вышел на площадь. Здесь были магазин, и почта, и зияющий тёмными окнами клуб.
Он допивал у ларька первый стакан вина, когда лежащие у ног жёлтые собаки подняли тяжёлые головы, нехотя встали и ушли в бурьян. Местные хлопцы окружили Карла. Их было шестеро, а может, четверо — они перемещались, раскачивались, выдавливали из пространства мирные картинки тихого вечера. Хлопцы были гладкие, допризывного возраста, с пробивающимися «вусами».
— Пей, пей, — мрачно сказал один из них. — Мы подождём.
Карл без удовольствия допил вино, протянул стакан в окошко ларька и тут же получил по зубам. Удар был не сильный, Карл устоял и потрогал зубы. Они были целы, только из разбитой верхней губы потекла кровь.
— Ото ж, будешь знать, как наших зэков увозить!
Карл улыбнулся, достал пахнущий разбавителем носовой платок и приложил к губе. Потом вопросительно посмотрел на хлопцев, повернулся и пошёл домой, стараясь не спешить. Хлопцы молча двинулись за ним.
Солнце село в степи за дальней посадкой. Резко потемнело: со стороны моря выдвигалась туча, серая и неопрятная. Она шла быстро, будто торопилась донести тяжёлую влагу, расползаясь, заглатывала розовые облака.
Идти было недалеко, Карл шёл обычным шагом, пацаны не отставали, выкрикивали что-то, смеялись. Судя по окликам, их становилось всё больше. За горизонтом медленно и основательно прокашливался гром. Уже во дворе Карл не выдержал и почти побежал. Захлопнул дверь, задвинул щеколду и принялся закрывать окна — а что, нормальные действия перед грозой. Для драки нужен кураж или хотя бы чувство правоты. А главное — этот чёртов Ведмедев: никак нельзя поднимать шум, вообще светиться… На часах — половина восьмого. В хате совсем темно — лампочек Валера так и не принёс.
В дверь грохотали: «Эй, художник-мудожник, выходи до нашего гестапу!» Облепили окна, строили рожи, кулаками стучали по рамам, противно царапали ножичками по стеклу. Стёкла, пожалуй, не побьют — хулиганство, за это не похвалят. Карл взял со стола кухонный нож, повертел, забросил в угол и рухнул на кровать.