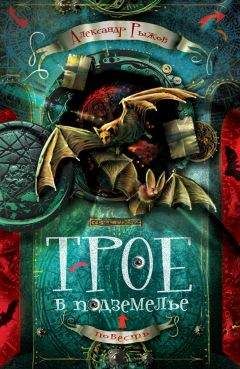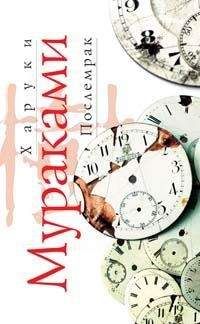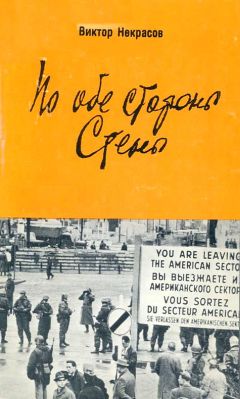Виктор Некрасов - По обе стороны океана (сборник)
Входя в дом, я старательно вытер ноги о лохматый коврик и, как можно любезнее улыбаясь, сказал, что я счастлив, что вступаю в дом, в какой-то степени памятник архитектуры, который я в своё время, в студенческие годы, изучал.
Хозяин на это не обратил или, как потом я понял, сделал вид, что не обратил внимания, а внимательно смотрел, как я вытираю ноги.
Потом я разделся в очень странной полукруглой прихожей (из неё в открытую дверь я увидел такую же странную полукруглую комнату) и по крутой винтовой лестнице без перил (хозяин, которому никак не меньше семидесяти, а то и больше, весьма бойко по ней передвигался) поднялся на второй этаж, в очень большую, очень высокую, тоже круглую комнату, даже не комнату, а скорее ателье, поразившую меня своей пустотой. Кушетка, покрытая одеялом (очевидно, ателье служило и спальней), большой, заваленный книгами и бумагами письменный стол и несколько прекрасных старинных кресел. На стенах портреты. Много. И очень неплохих. В течение последующего получаса я успел их рассмотреть внимательнее. Написаны легко, свободно, никому не подражая. Больше всего портретов какой-то дамы, очевидно жены, разных возрастов и в разных позах.
Прежде чем меня пригласили к столу, мне в руки дали старую газету. Как выяснилось, чтоб я ещё раз вытер ноги. Поняв, что чистая, сухая обувь — некий пунктик хозяина (на дворе действительно была грязь, а калоши теперь не в моде), я, идя навстречу хозяину и в то же время полушутливо, сказал, что могу для простоты разуться. Предложение моё было принято, и я остался в носках.
Потом меня пригласили к столу. Хозяин тоже сел за стол и, положив хорошо выбритый подбородок на скрещённые руки, стал смотреть в пространство. Лицо его было красивое, худое, маленькие седые усики. И очень грустные, задумчивые глаза. За его спиной на стене висел его автопортрет юных лет — этакий д'Артаньян с чёрными усиками и жгучим взглядом. Сейчас жгучего взгляда не осталось — только печаль.
Пауза затянулась, и я, чтоб разбить её, стал развивать тему, начатую ещё в прихожей, — как я, в прошлом архитектор, счастлив попасть в этот дом и беседовать (тут я несколько перегнул, беседы-то пока не было) со столь знаменитым мастером, которого мы, студенты, ещё в тридцатые годы и т. д.
Мельников молча слушал, не перебивая меня, и продолжал глядеть в пространство. Потом, не поворачивая головы и не глядя на меня, спросил:
— Так вы, значит, архитектор? А мне сказали, что писатель…
Я пустился в объяснения. Так, мол, и так, был в своё время и архитектором, и актёром, а потом, в силу сложившихся обстоятельств, стал писать.
— Значит, никак себя найти не можете? Бросаетесь из стороны в сторону?
Я сказал, что сейчас, как мне кажется, я на чём-то всё-таки остановился.
— Что же вы написали?
Я сказал.
— Это что же, протокол о Сталинградской битве?
Я растерялся — почему протокол?
— А что же вы ещё могли написать, кроме протоколов, хроники?
Я ещё больше растерялся и не нашёлся, что ответить. Опять молчание.
— Это кто — вы в молодости? — спросил я наконец, указывая на портрет, чтоб прекратить тягостное молчание.
Лаконичное «да», и после паузы:
— Вы, конечно же, не знаете, что я художник. А я художник… — И вдруг, без всякого перехода: — Мне сказали, что вы писали что-то о Корбюзье.
Да, писал, мне посчастливилось встретиться с ним в Париже, и я об этом написал.
— Гоняетесь за знаменитостями, значит?
Я ответил шутливым тоном, что поэтому вот и к нему пришёл.
Он быстро взглянул на меня (впервые за весь разговор) и опять, упёршись в пространство, грустно сказал:
— Я с ним тоже встречался.
Очевидно, во время его приезда в Москву, когда строилось по его проекту здание Центросоюза?
— Нет, не в Москве, а в Париже. Вам, очевидно, неведомо, что по моему проекту в Париже был построен советский павильон на выставке декоративного искусства в 1925 году?
Я обиделся. Почему неведомо? И тут же пальцами изобразил схему этого павильона.
На него это не очень подействовало.
— Хорошо, — сказал он, — вот вы всё говорите: Корбюзье, Корбюзье (очевидно, он очень ревновал к Корбюзье, так как я о нём упомянул только один раз), а кого же вы из русских архитекторов знаете?
Я сказал, сделав упор на него и опять-таки расточив комплименты. Тут он вдруг перешёл в атаку.
— Так, теперь вы хвалите Мельникова… А скажите прямо, зачем вы к этому самому Мельникову пришли? Какова ваша цель?
Как зачем? Просто познакомиться с родоначальником, основоположником и т. д., и т. д., повторяя всё то, что я уже говорил.
— Простите, так вы писатель? — перебил он меня.
— Да…
— Ваша фамилия Тихонов?
Так. Я слегка обомлел. Нет, не Тихонов.
— Не Тихонов, значит. Хорошо. Так что же вы писать обо мне думаете?
Я развёл руками. Нет, специальной мысли об этом у меня не было, но, если это ему улыбается, могу и написать. Молодому поколению архитекторов, конечно же, будет очень интересно узнать, над чем сейчас работает маститый архитектор, каковы его взгляды на нынешнюю архитектуру, на пути её развития.
Монолог мой был прерван.
— А вам не кажется, что прежде, чем писать, не мешало бы поинтересоваться, насколько всё это интересно самому маститому архитектору?
Тут я окончательно стал в тупик. Не нашёлся, что ответить. Что-то промямлил: «Конечно, если… я не знал… я думал… просто мне хотелось…»
— Так вот, молодой человек, — холодно и очень медленно, с расстановкой сказано было мне, — если вам что-нибудь хочется и для этого надо беспокоить другого человека, желательно предварительно осведомиться, насколько это интересно другому человеку… Вы читали рассказ или, уже не помню, может быть, это и в какой-то повести Тургенева, о молодом человеке, который приходит к некоему знаменитому профессору?
Я признался, что, к своему стыду, не помню.
Он мне напомнил и рассказал неведомую мне историю о каком-то молодом человеке, который в нетрезвом виде (все мои друзья, которым я рассказывал о моём визите, до сих пор уверены, что до звонка в заветную калитку я принял «свои сто грамм» в какой-нибудь забегаловке, чего, как ни странно, на самом деле не было) явился к какому-то светилу и стал его убеждать помочь что-то написать в его диссертации.
— Так вот, если не читали, — закончил он свой рассказ, — прочтите, обязательно прочтите.
Я понял, что мой визит несколько затянулся. Мне ясно дали понять это. Встав со стула, я извинился и сказал, что, по-видимому, не вовремя пришёл и поэтому позволю себе раскланяться.
— Пожалуйста.
Я обулся, сбежал по лестнице и, ещё раз извинившись за неуместное вторжение, ушёл.
— Вы сможете сами открыть калитку?
— Сумею…
На этом наше знакомство закончилось.
Я нисколько не обижен на Мельникова. Я понимаю его. Сорок лет отделяет его от дней, когда имя его гремело повсюду. Сорок лет…
Мне жаль только, что он не понял меня. Я шёл к нему с открытым сердцем, без всякой задней мысли, так же как и сейчас, невольно задумываясь, как много надо иметь внутренней силы, чтоб не сломиться под ударами незаслуженной критики и гордо перенести нелёгкие годы забвения.
Я ушёл от него с чувством горечи.
Выйдя из переулка, я свернул налево по Плотникову. На углу Сивцева Вражка я постоял недолго. Здесь когда-то я жил, в этом маленьком домике на втором этаже. Вот моё окно.
Теперь мне кажется, что это было очень давно. В крохотной комнате, вся обстановка которой состояла из железной койки, колченогого стола и занимавшего полкомнаты рояля, я заканчивал своё первое литературное произведение, здесь же начал второе. По вечерам, при свете стосвечовой лампы, покрытой бумажным колпаком, отчего в комнате всегда пахло жжёным, я читал вслух написанное. Верной слушательницей моей была Р., визиты которой почему-то повергали в смущение моих старушек-хозяек. Задыхаясь от волнения, они сдавленным шёпотом спрашивали сквозь замочную скважину: «Кто?» — и потом долго лязгали замком и цепочкой. Не сомневаюсь, что они были уверены, будто Р. приезжает сюда инкогнито, меняя по дороге фиакры с завешенными окнами, и только на лестнице снимает полумаску. Веселясь по этому поводу, мы с Р. прозвали мою резиденцию Пэ, от Рю-де-ля-Пэ — самой фешенебельной и галантной из парижских улиц… Сейчас мне кажется, что это действительно так, и Р. на самом деле, кутаясь в чёрную шаль и шурша шёлковыми юбками, пыталась незаметно проскользнуть мимо консьержки в подъезде. И было это очень давно, лет сто назад. Тогда же, когда Пушкин захаживал в небольшой особняк с колоннами на углу Гагаринского и Хрущёвского переулков. Там собирались декабристы, и в стене одной из комнат был потайной ход, и на кафельных печах с медными вьюшками в овальных медальонах маркизы целовались с пастушками.