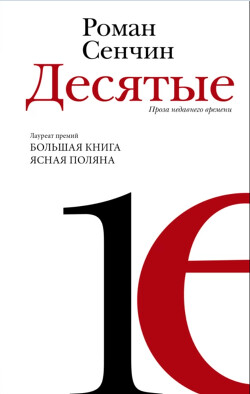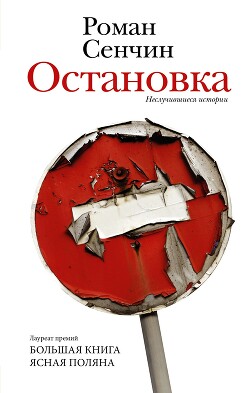Девяностые - Сенчин Роман Валерьевич
– Ну, это я знаю. Дальше-то? – поторопил Балташов, снова принимаясь есть, чтоб не терять времени на пустое слушанье.
– И такую нам лекцию этот Жгутович устроил. Не приведи господи… – Елена Егоровна говорила отрывисто, никак не могла продышаться после быстрой ходьбы или задыхаясь от негодования. – Вы б слышали, вы б слышали только, что он молол…
– Меня не пустили, – хмыкнул Балташов. – Охранники остановили, объяснили: конфиденциально. Ну и что говорил-то?
– Ну, начал вроде нормально, с проблем… А нам за полчаса-то перед приездом сообщили, что едет, – и подготовиться не успели путем… Ну, цифры приводил всякие, о планах на будущее говорил. А потом как-то хитро так перевел, что у нас, в сельской местности то есть, образование только вредит. Детям, мол, сказками всякими мозги пудрят, а они потом бегут отсюда, ищут сказки эти, а от этого только и им хуже, и селу, и всем. Потом мыкаются, дескать, всю жизнь, кто возвращается, тот сломленный, усталый, развращенный, ничего делать не хочет, спивается… Цифры насчет уголовных дел приводил. Из сел получилось больше шестидесяти процентов… Слушаем, а он гнет к тому потихоньку, что зря мы детей наших учим, что не нужна им литература, биология, физика тем более, химия, что это только вред несет. И потом прямым текстом: «Зачем трактористу или доярке постулаты Бора, формулы тригонометрии?» Я аж задохнулась от слов таких. А заврайоно сидит синяя вся, в стол уткнулась, видать, сдерживает себя, терпит… И тут Зинаида Пална, – завуч нервно пивнула из ковшика. – Зинаида Пална как вскочит. Она ж женщина боевая, за это и сделали ее директором, чтоб пробивала… И как она начала: «Да вы что это такое говорите?! Да как это можно так? Вот если мы будем из людей с детства скотников делать или доярок, то они скорее станут плохими людьми, никакими в лучшем случае. Кем может стать человек, не зная ни своей истории, ни великих достижений человечества?!» А Жгутович спокойно так: «Но даже такой гений, как Лев Николаевич Толстой, сомневался в том, что образование полезно крестьянству». И дальше и дальше в том же духе. Потом на часы посмотрел, поднялся: «Спасибо за содержательный разговор. Мне пора». Вот так вот… Не знаю, что и думать, как понять… И к чему это все привести может.
– Да к чему? – к крепостному праву прямой дорожкой. К чему ж еще? – ответил отчего-то повеселевший Балташов. – Закроют школу, клуб сам вон – что есть он, что нету… Оскотинят, а там – делай с нами что душе угодно. Ну, ясно. – Он встал из-за стола, утерся полотенцем. – Пока что надо кувыркаться как-нибудь. Тут ураган идет, слыхали? Вот продует, доломает всё к чертям собачьим, тогда и успокоиться можно. Спасибо, Ирина Петровна, за обед!
Жена сидела глубоко задумавшись, опустив голову; не слышала мужа. Завуч же смотрела на Балташова вопросительным, озадаченным взглядом.
Виктор Михайлович надел пиджак, бейсболку, пошел из избы.
– Что ж нам-то делать теперь? – плачущим голосом спросила Елена Егоровна. – Писать надо куда-то. Ведь это ж…
– Пишите, пишите, – не оборачиваясь отозвался Балташов и вышел.
По пути на поля заскочили к клубу посмотреть, как идут там дела. Строители уже разобрали часть крыши и снимали старый котел. Бригадир был в хорошем настроении, даже подмигнул Балташову. Андрей Николаевич наоборот даже не взглянул в его сторону.
С пастбища гнали намного раньше обычного коров, боясь, что буря застанет на выпасе, – потом собирай разбежавшееся по буеракам стадо.
В одном из дворов отец с сыном спиливали большую засыхающую березу. Если поломает ее ветром, упадет как раз на избу.
Виктор Михайлович велел Димке заехать к электрику. Строго-настрого приказал тому отправляться к центральному трансформатору и дежурить там.
– Как только начнется – вырубай свет!
– Да в городе раньше нашего отключат, – лениво ответил электрик.
– Отключат, не отключат, а ты давай. Не дай Бог замкнет где, полдеревни выгорит.
– Ну уж, Виктор Михайлыч…
– Ты что – сесть хочешь! – заорал Балташов, багровея, выкатив налитые бешеной злобой глаза. – Хорошо, я тебе обещаю! Иди, отдыхай, давай!
Электрик пробурчал что-то, надел резиновые сапоги, бросил на плечо сумку с инструментами. Пошел к трансформатору.
Совершив по небу положенное для конца августа путешествие, солнце начало склоняться к верхушкам сосен. Среди бледной небесной голубизны появились жиденькие облака, словно бы по голубому холсту мазнули несколько раз смоченной в известке кистью.
– Нехорошие облака! – крикнул Димка, подбавляя газу ревущему и трясущемуся на дороге «Уралу».
Виктор Михайлович тоже посмотрел в небо, стал на ходу закуривать, пряча в горсти спичку.
Обогнали два трактора, навстречу пропылил один с груженным пшеницей прицепом. Щебень дороги кое-где посыпан янтарными каплями зерна. Балташов все больше и больше раздражался, любая мелочь, казалось, могла окончательно выбить его из колеи. Равнодушная покорность к обстоятельствам и стихии боролась с желанием бороться, сопротивляться, действовать; надежда пробивалась из-под уверенности в скорой и необратимой катастрофе.
За перевальчиком открывается вид на лучшие поля «Захолмья», куда стянута вся зерноуборочная техника. Поля поделены снегозащитными полосками из шиповника и осин. Два ржаво-красных пятна «Сибиряков» на золотисто-желтом фоне. Один комбайн стоит, а другой медленно ползет, вращая мотовилом, срезая, будто саранча, колосья. За комбайном остается сероватая дорожка оголенной земли и по середине ее – полоска соломы. Третий комбайн, прицепной, на другом краю поля; он, кажется, тоже стоит.
Виктор Михайлович заерзал на сиденье, нервно затягивался в конце концов раскуренной сигаретой. Димка вилял с одного края дороги к другому, сгоняя мотоцикл по крутому спуску.
Комбайнер, его сменщик и Саманов сидели в тени от «Сибиряка». Перед ними расстеленная на жнивье тряпка с провизией – видимо, только что перекусывали.
– Ну, и чего стоим? – слезая с мотоцикла, раздраженно спросил Балташов.
– Горючее кончилось. – Саманов поднялся ему навстречу.
– Послали?
– Уж часа полтора как послали.
Виктор Михайлович помялся, переступая с ноги на ногу, что-то соображая, оглянулся на дорогу. Саманов в это время докладывал:
– Из района были три машины, загрузили их.
– Что? – Балташов, задумавшись, не расслышал.
– Были, говорю, три машины. Загрузили.
– Путевки-то отметил? А то потом открестятся, сволота.
– Отметил, конечно, и номера записал, – кивнул агроном. – Как там насчет погоды?
– Да идет вроде бы… – Виктор Михайлович вдруг как-то весь расслабился, посветлел лицом. Стал спокойным и ленивым. Не спеша, будто гуляя, прошелся по скошенной полосе, попинал щетинистую, ссохшуюся в камень землю. Глубоко вдыхал дурманящий, густой дух нагретой догоряча пшеницы, смотрел на ее прямые высокие стебли, на поникшие и набухшие колосья. Подошел ближе к ней, резанул ребром ладони по верхушкам. Выпало, шелестя об засохшие, уже мертвые былки, провалилось на землю несколько зернышек. Даже слабых порывов ветра хватило бы сейчас, чтобы подпортить пшеницу.
– Опоздали мы, Юрьич, – сказал Балташов. – Опять пропадет урожай.
Саманов безнадежно возразил:
– Пронесет, может быть.
– Если и пронесет даже… такими темпами пока проваландаемся, оно и без всякого урагана все вытечет.
– М-да… Вы трактора́ не обгоняли?
– Обгоняли, – равнодушно ответил Виктор Михайлович. – Обгоняли…
– Сейчас заправим, покосим еще.
– Давайте, давайте…
Нехорошая, пустая тишина повисла над землей. Одиноко и нерадостно стрекотал неподалеку работающий комбайн. Воздух словно бы замер и окаменел. Ни мух, ни назойливой мошкары, кузнецы замолчали, куда-то попрятались. Даже беспокойные листья осин успокоились и притаились – казалось, чего-то ждали, к чему-то прислушивались.
– Слышишь? – спросил Балташов.
Агроном с надеждой уставился на дорогу.