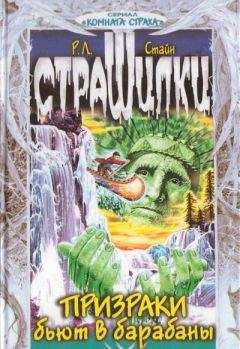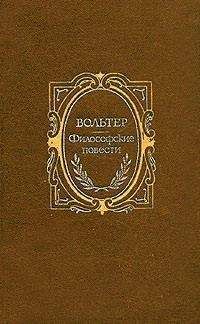Ханс Хенни Янн - Это настигнет каждого
- История на этом закончилась? - спросил Матье.
- Если иметь в виду маленького Аббадону, то, вероятно, да. Во всяком случае, о нем больше ничего не слышно -не знаю даже, продолжает ли он прыгать голым по кубрику, прежде чем залечь в койку. Но Йенс так и не стал собой прежним - он словно увидел живьем одного из богов или дьявола. Он мало-помалу сделался очень молчаливым... уже в этом мне видится что-то чудесное. Он порвал все фотографии обнаженных красавиц, которые прежде собирал много лет и прятал под матрацем. В ближайшей гавани, в <...>, он в свободное от вахты время не отправился в бордель, как поступал раньше, и не попытался подцепить какую-нибудь девушку из моряцкой семьи, прогуливающуюся по набережной. Он зашел в первую же пивную и принялся методично накачивать себя пивом и шнапсом. Он пил и пил. К берегу его доставили на такси. Двум вахтенным пришлось втаскивать его на борт. Они сперва положили его на крышку грузового люка. И решились побеспокоить третьего помощника капитана, поскольку им показалось, что Йенс вот-вот испустит дух. С трудом удалось влить ему в горло лекарство. Его вырва-274 ло, но он еще долго был без сознания. Лишь через два дня он начал работать - вполсилы. Он слушал упреки капитана и молчал. Он не обещал, что исправится; он молчал. В Гётеборге все повторилось, с небольшими вариациями -потому что теперь капитан, отпуская Йенса на берег, выделил ему меньшую сумму. Йенс приобрел у стюарда литровую бутыль водки, а на берегу в комплект к ней купил поллитра фруктового бренди, зашел в один из
Это НАСТИГНЕТ КАЖДОГО. Х<анс> Х<енни> Я<нн> <Тетрадь> V
обезображенных ржавчиной жестяных общественных писсуаров и в несколько глотков опустошил обе емкости. Ну, может, дал отхлебнуть глоток какому-нибудь красноносому ссыкуну. Покинув писсуар, он почти тотчас же свалился под ноги прохожим. Полицейский патруль, изучив документы страдальца, доставил его на борт. Аваддон или Лейф, это уж по твоему усмотрению, не стал смеяться, увидев мертвецки пьяного Йенса, - как было в первый раз. Он оглянулся, нет ли кого поблизости, - то ли растерявшись и не зная, что делать, то ли в поисках помощника; но увидел - в сторонке, у леера - только уродливого и неряшливого юнгу Иеремию.
Аббадона вздрогнул, заметив его; потом все же приблизился к уродцу и сказал:
- Это несчастье, Иеремия. Но я в нем не виноват.
На сей раз ухмыльнулся - невесело - Иеремия.
- На свете много уродов и стариков, - хрипло проговорил он, - Тебе-то на что жаловаться? Ты к таким не относишься.
- Не вижу разницы между красотой и уродством, - ответил Лейф.
- Оставь меня! - крикнул Иеремия. - Убирайся! Все знают, что к девкам ты равнодушен. - Неожиданно он получил такую затрещину, что у него лопнула губа и из носа потекла кровь. Это боцман, не замеченный Лейфом и Иеремией, отреагировал на последние - услышанные им - слова юнги. Иеремия взвыл от боли.
- Свинья, - сказал боцман. - Таким в море не место.
Аваддон, не проронив ни слова, ушел.
Когда судно покинуло гавань Гётеборга, Йенс получил от капитана второй нагоняй. Более суровый, чем в первый раз. Капитан сказал, что выдаст Йенсу на руки его документы, если тот - неважно, при каких обстоятельствах -еще хоть раз будет доставлен на борт в бессознательном состоянии из-за злоупотребления алкоголем. Три или четыре года хорошей службы пойдут псу под хвост. Так что лучше ему взять себя в руки. Йенс не стал обещать, что исправится. Он молчал.
- Теперь судно в Копенгагене, - сказал Матье.
- И Йенс опять на берегу, - сказал Гари.
- Вероятно, он снова напьется, - сказал Матье.
- Очень может быть, ведь нельзя не выдать ему заработанные им деньги, - сказал Гари.
- Значит, его спишут с корабля, - сказал Матье.
- Разве что какая-нибудь морячка удержит его от пьянства. Да только куда ей? Нет других таких... Таких веселых, как Аваддон, и таких красивых, - сказал Гари, - И вдобавок таких простодушных - не умеющих оценить степень уродства или ущерб, причиненный старением.
- Чего ты, собственно, добивался, рассказывая мне эту длинную историю? - неожиданно спросил Матье.
- Я уже сказал в самом начале, да и потом пару раз повторил: не исключено, что он окажется Третьим.
- Ангелом? Третьим ангелом? Пустая болтовня, Гари. Болтовня, имеющая целью оправдать что-то, о чем я еще не знаю... или затушевать... по тем или иным причинам. В твоем утверждении нет логики... Это игра краплеными картами. Ты очень отдалился от меня - больше, чем когда-либо прежде...
Гари был так напуган словами Матье, что сердце у него заколотилось, словно вот-вот выпорхнет из груди. Мгновение он не мог сдвинуться с места. Наконец, прерывисто дыша, объяснил:
- Речь все еще идет о нашей с тобой смерти. Клубки внутренностей... Я не утверждаю, что они мне противны, совсем нет... я их, наоборот, почитаю... почитаю, во всяком случае, твои внутренности... Так вот, они... как церкви на перекрестках сотворенного мира. Их форма, состоящая из завитков, нелепа... но и внушает любовь, если заключена в красивое чрево. Имеются разные степени красоты... это несомненно... и ее наивысшая форма неотразимо воздействует на меня... превращает нелепицу в пусть и сбивчивую, но непорочную мысль. Поверь мне... когда те живодеры собирались выпотрошить тебя... и уже приступили к своему грязному делу... я был таким же заблудшим быдлом, как самый безмозглый из них... ничем от них не отличался... был нисколько не жалостливее... а таким же садистом. .. или еще хуже. Но вдруг я увидел твой красивый живот... и рану в нем... и на фоне этой раны... нежную пену твоих внутренностей... немного, но достаточно, чтобы представить себе, каков ты внутри... что ты, беспомощный, целиком зависишь от своих потрохов... беспомощный кусок дерьма... и вброшенная в эти потроха смерть, ничего больше... а все же такой красивый. Поначалу я вообще не видел твоего лица. Мой взгляд не поднимался выше ребер, сосков. Но одновременно я видел и себя... именно так... как вброшенную туда смерть. Да, на мгновение я занял твое место... лежал на земле. И вдруг я стал другим: тем, кто любит. Я размахнулся и вслепую ударил кулаком...
Он опять остановился, тяжело задышал. Матье тоже не сделал следующего шага. Но и ничего не ответил.
- Мы с тобой потом пытались как-то объяснить эту случившуюся со мной перемену, определить ее суть... Но заметного результата не достигли. Поначалу мы были счастливы. Позже все в нас подчинилось другому, новому порядку. Мечты и влечения отлились в более твердые формы. Само время над нами работало. Твои раны затянулись. А мое влечение к смерти... желание, чтобы нас двоих прошила насквозь одна смертоносная стрела... не устояло перед заурядными привычками, перед повседневностью. Мы сами стали заурядными... хотя, конечно, сохранили кое-какие чудачества... Но даже чудаковатость наша теперь умеренная. В особенности это касается меня. Матрос... и сын директора пароходства... в одной упряжке... Это непросто, приходится изобретать ритуал; но я не хочу никакого сговора между тобою и мною... никаких сексуальных привычек... ничего такого, о чем читаешь в книжках или слышишь от людей... о чем пишут на стенах писсуаров. Лежать рядом с тобой в постели, и согревать тебя, и самому согреваться - это другое. Это - не ограничение свободы, а скорее ее начало. Но дальше начала дело у нас не пошло. А ты... еще больше, чем я, мучась дурными предчувствиями... боишься меня потерять... Словно какая-то баба может сожрать меня, откусывая по кусочку снизу...
- Гари... Гари... - Матье, окликая друга, пытался прервать его речь; но ничего не достиг.
- Этот Аваддон - такое имя подходит ему больше, чем Лейф, - этот Аваддон в своей незащищенной красоте... в красе его юности светлой, как говорит Клопшток... уже заглянул, не знаю, когда именно, в бездну собственной бренной плоти, что кажется несомненным. Может, он только пубертатные годы прожил в состоянии безграничной покинутости, со всеми пытками и усладами, какие измышлял для него его господин. Может, он любил тигра... и не смел его даже погладить; или - негра, который при сексуальном общении едва его не погубил, он же не издал ни звука жалобы. Или он молился на свое отражение в зеркале, а потом, чтобы освободиться от такого рода зависимости, ударил себя ножом в лоб. Как бы то ни было, он разучился отличать красоту от уродства. Он отдался бы даже вонючему юнге Иеремии. Он способен на любые гнусности... но не на то, чтобы опомниться, вспомнив о собственной красоте... очиститься, связав свое желание нравиться со стремлением к подлинной любви. Он нечеловечески красив... и в этом смысле сравним лишь с ангелами... А внутри испорчен, как какая-нибудь дешевая тварь, как завшивевший юнга.
Гари набрал в легкие побольше воздуху, потому что прежде говорил слишком быстро, и продолжил:
- Но он хороший товарищ... Он, в меру сил, помогает каждому... я уже об этом упоминал... и работает он старательнее всех прочих. Если речь идет об опасном поручении, вызывается первым. Себя не щадит...