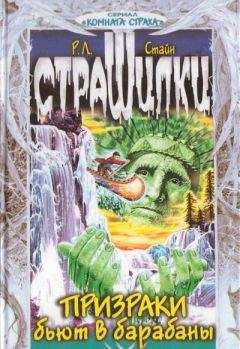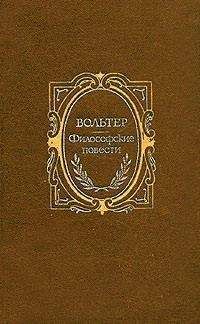Ханс Хенни Янн - Это настигнет каждого
- Если ты опишешь мне еще и его лицо, мы с ним точно не разминемся.
Гари не заметил, что в голосе Матье прозвучала насмешка или горечь. Он, правда, сказал в ответ, что лицо у Лейфа чистое, простодушное, радостное, почти без теней; если не считать складочки, которая, поднимаясь от переносицы вертикально вверх, теряется где-то посреди лба. Может, это шрам... Но на сей раз Гари явно ограничился характеристиками самого общего свойства, без ярких метафор и намеков на античные образцы. «Маленькие круглые уши», - добавил еще. Он не старался быть особенно точным. Что могла объяснить Матье следующая, например, фраза: «Уши у него, с учетом пропорций, такие же маленькие, как и пупок»? А из пупка, по словам Гари, тоже выходит складочка - как на лбу, только горизонтальная; потом ее неожиданно прерывает какой-то брюшной мускул.
Гари в общем-то не очень интересовало лицо матроса Лейфа, которое, если разложить его на составные части -глаза, губы, нос, подбородок, зубы и щеки, шею и почти невидимый кадык, - представляло собой просто приятное человеческое лицо; и только окольными путями можно было отыскать на этом лице что-то необычное или соблазнительное. Единственным, что хотел подчеркнуть Гари (в противоположность собственным качествам), была присущая такой красоте блаженная неисчерпаемость, неодолимо притягательная невозмутимость. Гари, правда, с самого начала допустил ошибку: когда заговорил о Третьем, имея в виду не то третьего человека, исключительно хорошо сложенного, не то третьего ангела, равноценного двум другим и в телесном смысле, и с точки зрения поведения, не то - скрывающееся за телесностью нечто, вообще не поддающееся раскрытию; короче, одного из тех немногих эрзац-существ, о которых они вновь и вновь говорили со времен Бенгстборга: что такое существо придаст более протяженную или даже очень протяженную длительность их столь короткой - на поверхностный взгляд - жизни. Дело в том, что никогда ни Гари, ни Матье не могли представить себе друг друга старыми или пожилыми людьми. Уже это было необычно. Они жили, можно сказать, без будущего. Даже добровольно принятая аскеза, которая определяла теперь их отношения - хотя каждый из них по-своему чувствовал, что она неестественна, неуместна, чуть ли не отвратительна и не может продолжаться до бесконечности,- как бы не существовала во времени, но была лишь игрой, игрой в перебирание поводов эту аскезу нарушить, набор же поводов казался неисчерпаемым. Оба верили (правда, с расхождением в некоторых деталях), что достаточно им серьезно захотеть, в любой момент, воскресить дни Бенгстборга - если понадобится, с помощью особого, пока еще не вызревшего ритуала, - и они, невзирая на прошедшие годы, снова скрутят нить своего совместного бытия, когда-то намеренно ими разорванную ради каких-то малозначимых приключений или событий. Эта уверенность у Гари была сильней, чем у Матье: последний из-за своих неудовлетворенных влечений временами впадал в глубокую тоску.
Лейф, по мнению Гари, был вдохновляемым свыше сверхъестественным существом: может, каким-нибудь мелким демоном, может - самим кающимся Аваддоном[67]. От мальчика по вызову, дескать, его отличить нелегко. Так или иначе, но Йенса он лишил ума и рассудка. Столкнул его в Ничто... Или, правильнее сказать, в бездну всяческих сомнений и житейских рытвин, к коим тот не был подготовлен, до которых попросту не дорос.
- Как так? - переспросил Матье, - Зачем ему этот Йенс понадобился? Ты рассказываешь странную историю. И она становится все длиннее. Не понимаю, почему ты не оборвешь ее... И: какое касательство имеет она ко мне?
- Если все так и есть... то она касается нас обоих.
- Если что есть - и как? - спросил Матье.
- Если речь идет о Третьем, - сказал Гари.
- Он, видимо, совсем тебя ослепил, - сказал Матье. - Я, конечно, не вполне понимаю твои телесные потребности - это для меня не новость, - но на сей раз ты зачем-то заманиваешь меня в темную бездну, уже издалека представляющуюся мне чуждой.
- Речь не обо мне, - сказал Гари, - я просто набросал некую картину. Я хотел бы тебя подготовить... или предостеречь...
- Или... перенаправить мое влечение к тебе на кого-то другого... - Матье произнес это еще тише, чем говорил прежде, так что Гари его слов не расслышал и не придал им значения, приняв за невежливую попытку опередить собеседника: за неудачную реплику, втиснувшуюся в чужую речь.
- Вернувшись с вахты, он, разумеется, моется, расчесывает волосы, смотрит в зеркало, улыбается сам себе, возможно, брызгает на себя одеколоном или просто поглаживает свою гладкую кожу. Неизвестно, что он при этом думает. Никто не знает о другом человеке, что тот думает или почему улыбается сам себе, что ему в себе нравится и к чему он хочет приложить свои силы...
Гари помолчал.
- Приготовившись таким образом, он входит в кубрик, чтобы лечь в койку и поспать. Но он ложится не сразу. Он снимает штаны, если не сделал этого еще в помещении, где все моются, и начинает, пританцовывая, кружить по кубрику. Без всякого умысла, вероятно. Но мы этого не знаем. Он пританцовывает или подпрыгивает, прислоняется к переборкам, присаживается на диван или выглядывает в иллюминатор. Как бы то ни было, минут десять-пятнадцать он и не помышляет о том, чтобы забраться на верхнюю койку и заснуть. Он упивается хорошим самочувствием или старается на свой манер улучшить атмосферу в кубрике. Может, он хочет лишь подышать - по-другому, чем дышится на работе. О соседе по кубрику он, скорее всего, вообще не думает, а если и думает, то с чувством превосходства, потому что сосед этот - вполне заурядный тип, довольно уже пожилой, тогда как сам Лейф способен принимать любой образ, связанный с соблазном, и обладает властью, обусловленной его юностью, и полон впечатлений, даже десятой доли которых он еще не опробовал, не испытал на себе. У него, конечно, уже накопился разного рода жизненный опыт, но девять десятых его естества пока этим опытом не затронуто, не измерено в своих глубинах. Лейф не знает собственных бездн. Да и зачем ему знать? Красота защитит его от любых неприятных неожиданностей.
Матье больше не перебивал Гари; ему хотелось плакать; но в нем, как он чувствовал, воцарилась засуха. Он даже не старался представить себе этого матроса Лейфа. Он просто терпел слова, падавшие на него, как струи дождя.
- Но Йенс не спал, - рассказывал Гари. - Как правило, не спал... Или просыпался, как только Лейф заходил в кубрик... Потому что, бодрствующий или спящий, он только и ждал возможности увидеть маленького Авадонна. Возможности тайком, с полузакрытыми глазами, наблюдать, как тот носится по кубрику, делая даже воздух радостным и красивым... И еще - вдыхать его запах, запах металла или ключевой воды... если, конечно, это не запах одеколона. Йенс ни о чем не думал и ничего для себя не хотел. Он побывал во многих борделях. Но еще никогда не пользовался услугами мальчика по вызову или продажного юнца, не говоря уже о матросах. Такое он считал непристойностью, дурной привычкой - как бы долго не длился рейс и сколько бы похотливого желания не скапливалось у моряков под ногтями. Но Йенс не мог спать, когда Лейф выделывал в кубрике свои танцевальные па... или как назвать то, что он вытворял. Он должен был смотреть.
- С полузакрытыми глазами, - сказал Матье, - тайком... как вор.
- Он в самом деле крал что-то от этих минут, - сказал Гари, - и от прекрасного образа. Он ведь не слышал о серафиме Аваддоне, который был столь красив, что хотя и пал очень низко, потеряв невинность, но любви Абдиила, другого ангела, лишиться не мог. Откуда бы Йенсу знать такое? Я сам узнал это только от тебя...
- Да-да,- сказал Матье, тронутый тем, что Гари помнит его рассказ. - После всех прегрешений Аббадоны, когда он с душой, полной страха, уже приготовился к гибели, пробудилась краса его юности светлой - так говорит Клопшток. И Абдиил задрожал над ним. Он не в силах был выдержать вид Приближающегося. Он задрожал над ним и обнял его[68]...
- Может, и Йенс не в силах был выдержать такое, - сказал Гари. - Как бы то ни было, однажды ночью, едва Лейф вошел в кубрик, второй матрос, физически более зрелый, соскочил с койки, кинулся на него, схватил, рванул к себе, неумело поднял на руки, усадил на диван... После чего тормошил, и поглаживал, и ласкал до тех пор, пока губы у Аваддона не сжались в бескровную полоску, пока он не закрыл глаза, не задышал глубоко и затрудненно и пока белая жидкость, всем нам знакомая, не брызнула ему в рот. Но уже через несколько секунд Лейф высвободился из объятий, запрыгнул к себе в койку, лег на живот и принялся урчать, словно кот. Он не прятал своего добродушно-радостного лица. Он смеялся. Йенс потом рассказал, что этот дьяволенок смеялся - не издевательски, а в высшей степени удовлетворенно. Йенс не знал, куда себя деть. Сперва он бегал взад-вперед по тесному помещению. Потом тоже бросился в свою койку. Но он, хоть и лежал тихо, был близок к умопомешательству. Тридцать лет привычной жизни разрушены. С борделями, которые он посещал прежде, придется навсегда распрощаться. Зеркала попадали со стен. Всё погребено под осколками. Ни одной припудренной женской груди, ни соблазнительного женского лона не осталось в его памяти - только опрокинутые лампы под розовыми абажурами и горы стеклянной крошки вперемешку с обвалившейся штукатуркой. Из этого апокалипсиса его ненадолго вырвал (один-единственный раз) голос Лейфа. Тот задал вопрос - наивный, излишний, уводящий в сторону: «Понравился я тебе?» Йенс только застонал. Он мучался. Он больше не обладал человеческим разумом, соответствующим его природе. Он ничем больше не обладал. Ни единым воспоминанием, и уж меньше всего - самим Аваддоном; которым, впрочем, и не хотел обладать, но который теперь лежал над ним в койке и гудел, словно майский жук в полете, - исключительно от безделья и по причине своей незлобивости. К тому времени, когда Йенса разбудили на вахту, состояние его не улучшилось. Он едва держался на ногах. Товарищи не услышали бы от него эту историю, если бы Йенс не запутался окончательно, если бы его не погребли под собой все эти осколки зеркал, опрокинутые лампы, истлевшие женские груди... если бы он не плакал, как выпоротый пятнадцатилетний юнга.