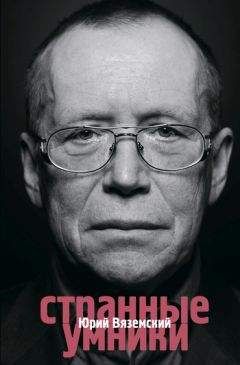Александр Проханов - Среди пуль
– Зачем тебе это?
– Хочу, чтоб ты им рассказал! Все, что видел и знаешь! О том, что готовится путч! Что их хотят перебить! Задействованы силовые структуры! Готова спецпропаганда! Сконцентрированы огромные силы! Здесь, в Москве, и в провинции, и за пределами России! Запад дал согласие! Он станет спокойно смотреть, как в Москве будут стрелять и вешать! Кое-что ты уже увидел! Остальное тебе покажу! Хочу, чтобы ты пошел к Руцкому и рассказал ему обо всем! Пойдешь к Руцкому, расскажешь все, что видел!
– Но тебе-то зачем? Ты ведь служишь тому алкоголику!
– Ты не допускаешь мысли, что я его ненавижу? Что я, как и ты, патриот России! Волею случая оказался в этой шайке! Пользуюсь нашим знакомством, чтобы послать сигнал Руцкому!
– Ненавидишь Ельцина? Хочешь выдать его планы Руцкому?
– Я знаю Руцкого по Афганистану. Пили вместе в Баграме. Это я отправлял его на реализацию разведданных, когда его сбили в первый раз. Я вытаскивал его из-под душманских пуль. Я давал ему информацию о целях, когда он ушел к пакистанской границе и его сбили «Фантомы». Я посылал разведку на поиск, добывал сведения о его пленении, договаривался с полевыми командирами. Я нашел концы к пакистанской разведке, когда Руцкой сидел в земляной тюрьме и его должны были расстрелять. Я лично отбирал в Кабуле, в тюрьме Поли-Чархи, захваченных пакистанских агентов, которых потом на него обменяли. Он должен меня помнить! Я сочувствую ему! Я его сторонник и друг! Ненавижу Ельцина, этот кусок тухлого мяса! Не прощу ему разрушения СССР! Не прощу передачу России под контроль американцев! Обещай, что пойдешь к Руцкому!
Белосельцев был в смятении. Верил – и не верил. Хотел понять, кто перед ним. Лицедей и умный противник или тайный товарищ и брат.
Лицо Каретного продолжало меняться, как голографическая картинка. Становилось желтым, словно в нем разливалась желчь. Обнаруживало монголоидные черты, широкие скулы, узкие зеленоватые глаза. И вдруг вытягивалось, темнело, нос нависал над губой, глаза выкатывались, становились лиловыми, и он начинал походить на араба, семита.
Белосельцев едва заметно поворачивал голову, менял положение зрачков, старался выбрать ракурс, найти освещение лица, где бы возникло истинное его выражение. И вдруг нашел. Лицо Каретного побелело, окостенело, словно из него истекла живая плоть, выкипела кровь, и оно стало походить на череп, обтянутый кожей, с поредевшими, наполовину истлевшими волосами, с пустыми глазницами, из которых выпарились глаза.
Это была смерть. Его, Белосельцева, смерть. Он ужаснулся этого мгновенного прозрения. Покачнулся. Зрачки сместились, изменился угол падения лучей на голограмму, и ужасное видение исчезло. Каретный, страстный, живой, умолял, требовал ответа:
– Пойдешь? Расскажешь? Можешь мне обещать?
– Не знаю, – сказал Белосельцев, чувствуя страшную слабость. Его живые силы и соки были выпиты жутким видением. – Мне надо подумать.
Вдали, за поляной, за дымящимся макетом дворца, на дороге остановился кортеж. Белосельцев в бинокль видел, как из лимузина, окруженный свитой, вышел президент. Он пританцовывал, размахивал руками. В кулаке его была омоновская дубинка. Он поднимал и с силой опускал ее. Свита шарахалась, разбегалась. Ельцин, в котором играл дурной и веселый хмель, пританцовывал, рубил дубинкой воздух, поражая невидимого ненавистного врага.
Глава семнадцатая
Белосельцев думал: иеромонах Филадельф лежит на гнилом одре, дрожит седой бородой, восторженно сияет детскими голубыми очами. Посылает его на подвиг, благословляет на жертву, не дает уйти от беды, заставляет остаться в обреченном на страдания мире. Каретный, разведчик и соглядатай, слуга и наймит неведомых сил, отыскал его среди толп, приблизил к себе и теперь нагружает заданием, смысл которого неясен и грозен, сулит опасность и смерть. Его посылают, его выбирают, двигают им и владеют. Он, казавшийся себе свободным, ищущим применение своей свободе, не свободен, пойман, понуждаем чьей-то невидимой, неодолимой волей.
Так думал Белосельцев, чувствуя, что вступает в состязание с чьим-то могучим, превосходящим его интеллектом. Ввязывается в схватку с разветвленной, окружившей его группировкой, желающей использовать его страхи, нетерпение, ненависть, подчинить своему неясному замыслу.
«Идти – не идти? – Он старался разгадать уготованную ему ловушку. – Действовать или оставаться в бездействии?»
Он стал обладателем уникального знания, грозного и опасного, чреватого катастрофой и смертью. Он мог утаить это знание, скрыться вместе с ним, уехать в леса и безлюдные дебри. Но знание помимо него просочится, прорвется в мир, обретет свои уродливые страшные формы – горящего дворца, обгорелых трупов, залитого кровью асфальта. И он, убежавший, будет повинен в случившемся.
Он может пойти с этим знанием к тем, к кому его посылают. Но знание, будучи неполным, исходя от опасного, неискреннего человека, погубит тех, к кому его посылают. Он может промолчать и исчезнуть, но случится побоище, и кровь будет на нем, на Белосельцеве.
Он мучился, не находил себе места. То кидался к розовому гардеробу, где среди материнских платков и юбок был спрятан его пистолет. То подходил к стеклянному книжному шкафу, где лежал альбом с фамильными снимками. То хватал телефонную трубку, желая позвонить своей милой. То припадал к окну, где двигалось месиво автомобилей, похожее на навозных жуков.
Он нашел среди бумаг визитную карточку депутата Константинова, которую тот вручил ему у Красного Генерала. Набрал номер, представился. Напомнил Константинову об их встрече и попросил о свидании. Неожиданно быстро и просто получил приглашение.
– Пропуск на втором подъезде, – сказал Константинов. – Я жду.
Он вышел из метро у Киевского вокзала, подхваченный толпой – загорелыми украинскими тетками с кулями, хмельными носильщиками, разомлевшими милиционерами, стал двигаться в тесноте и гвалте и тут вдруг испытал больное едкое чувство. Железные рельсы, вылетающие из-под прозрачных резных перекрытий, пробегут по русской земле и очень скоро упрутся в тупую, установленную врагами границу, за которой любимые города и селенья, моря и реки уже не являются его Родиной, они отняты у него, подмяты враждебной властью. И от этой мысли он сразу ослабел, утратил крепость движений. Вяло побрел по набережной, под каменным, знакомым с детства мостом, по которому из-под земли вылетали и мчались в небе голубые вагоны метро.
Дошел до гостиницы «Украина» с памятником Шевченко, который вызвал в нем отчуждение и враждебность. Шевченко стоял в центре Москвы и, казалось, ненавидел эту Москву, ее обитателей, его, Белосельцева, желал отомстить за какую-то давнишнюю, столетье назад нанесенную обиду.
Поднялся на мост, на дрожащую дугу, ослепленный множеством встречных автомобильных стекол. На вершине этой гудящей дуги, пропуская под собой темную, груженную углем баржу, увидел дворец. Белый, ослепительный, чистый, он напоминал огромную цветущую вишню. Это сходство каменной громады с живым цветущим деревом поразило Белосельцева. Он остановился, любуясь, потянулся к белизне, словно желал погрузить лицо в благоухающие душистые купы, в сладкий ветер и пчелиный гул.
Он помнил этот дворец в проклятом августе 91-го года. Помнил его посещение. Ядовитое облако излетало из дворца, накрывая Москву своим удушающим куполом. Теперь это был иной дворец, с иными обитателями, иной судьбой. Он напоминал цветущую вишню.
Это сходство длилось недолго. Дворец подернулся гарью, туманом, потускнел и поблек, словно на солнце легла тень затмения. Легчайшая копоть покрыла мрамор и хрусталь, шелковистые флаги и золотые часы с драгоценными стрелками и циферблатом.
Белосельцев знал тайну дворца, знал его обреченность. Тот ужасный дощатый макет, выбеленный известкой, горящий, с расколотыми окнами, с цепью бегущих солдат и стреляющих бэтээров, предвещал гибель дворца. Белосельцев знал о гибели, принес эту весть к стенам дворца.
Он чувствовал живую сердцевину дворца, заключенную в белоснежную оболочку, как птенец в скорлупу. Здание будто дышало, излучало, рассылало в небо, по окрестным улицам, по набережной, по реке, под землю непрерывные сигналы и импульсы. Оно было связано с остальной Москвой, с другими городами и землями, было центром колоссальных энергий, сгустившихся здесь, на Москве-реке, белым мрамором, стеклом и металлом.
И этот дворец был обречен. И Белосельцев об этом знал. Он принес дворцу приговор. Он был вестником смерти. Он стоял на мосту, не в силах шагнуть.
Белосельцев вдруг почувствовал, что на него смотрят. Прямым, вопрошающим взором. Оглянулся, мимо торопились утомленные люди, мелькали в машинах отрешенные лица шоферов и пассажиров. Река слепо, покрытая лучистыми огнями, тянула за баржей солнечный след. И Белосельцев вдруг понял, что это дворец смотрит на него немигающим вопрошающим взглядом. Ждет его и зовет.