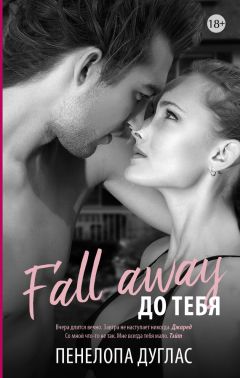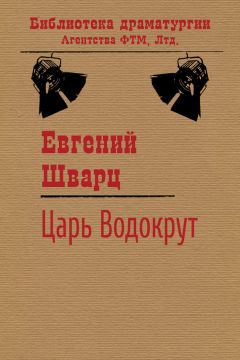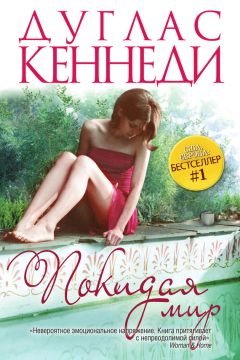Дуглас Кеннеди - Испытание правдой
— Ты вправе сердиться на меня. Но Лиззи взяла с меня клятву, что я никогда не расскажу о наших беседах, и, так же как ты, я всегда держу слово.
— Я ничего не ответила на это, хотя и знала, что он имеет в виду. Меня не отпускала мысль о том, что семейная жизнь похожа на спутанный клубок секретов. Только не говори маме/папе… Держи это при себе… Он/она не должны знать…
— Тогда почему же ты нарушил слово?
— Потому что ты нарушила свое слово, которое дала Лиззи.
— Но я это сделала только потому, что…
— Я знаю. У нее сейчас решается судьба, и ты понимала, что от меня не ускользнет твоя нервозность, а утаивать что-то от меня ты не любишь, ведь, в отличие от своего отца, ты никогда не отличалась талантом заговорщика.
— Произнося эти слова, он задержал на мне взгляд — и я не знала, то ли мне возмущаться, то ли восхищаться его многогранной и сложной натурой. Казалось, отцу удалось невозможное: он сумел упорядочить свою жизнь и прекрасно уживался с собственными противоречиями. Скажем, признание из него можно было выбить, только застукав с поличным. Так, прошлым летом я обнаружила, что вот уже год, с тех пор как маму поместили в лечебницу, он встречается с женщиной, гораздо моложе его, по имени Эдит Ярви. «Гораздо моложе» — это шестьдесят семь лет (для красавца на девятом десятке просто малолетка). Как и все его женщины, прошлые и нынешние, она интеллектуалка (интересно, спал ли он с кем-то, кто не подписывался на нью-йоркское «Книжное обозрение»?). Профессор русского языка, она недавно вышла на пенсию, но до сих пор замужем за бывшим ректором университета, хотя проводила много времени с отцом с тех пор, как…
Когда я наконец поймала его за руку, он долго увиливал от ответа на вопрос, как долго продолжаются эти отношения, — у меня было подозрение, что все началось еще до маминого Альцгеймера. Даже в том, как он признался, был весь отец. В июне прошлого года я позвонила ему домой, и трубку сняла женщина.
— Это Ханна? — спросила она, слегка обескуражив меня.
— Э… да. А с кем я говорю?
— Я друг вашего отца, меня зовут Эдит. Жду с нетерпением встречи с вами, когда приедете в следующий раз навестить Джона.
Джона.
Когда она передала трубку отцу, его голос звучал, как мне показалось, испуганно.
— Это была Эдит, — сказал он.
— Она представилась. И сказала, что она твой друг.
— Да, это так.
— Просто друг?
— Пауза.
— Нет, чуть больше чем друг.
— Мне с трудом удалось сдержать смех.
— Я приятно удивлена, отец. В твоем возрасте большинство мужчин уже выходят из большого спорта. А ты…
— Это началось только после того, как с твоей мамой…
— Конечно, я даже не сомневаюсь. В любом случае, мне совершенно все равно.
— Значит, ты не расстроена?
— Просто было бы лучше, если бы ты рассказал мне об этом чуть раньше.
— Да это случилось совсем недавно.
— Господи, почему он всегда так мучительно выкладывает правду? Именно его скрытность и неспособность разом высказаться начистоту и спровоцировала глубокий конфликт между нами тридцать лет назад. Вот и сейчас я уже была готова вспылить и бросить трубку, но потом подумала, что в возрасте восьмидесяти двух лет отец вряд ли исправится. Так уж он был устроен. Не нравится — не берите.
— Ну, и когда я могу познакомиться с твоей подругой? — спросила я.
Через несколько недель я приехала в Берлингтон, и в доме отца меня ждал изысканный обед, устроенный Эдит Ярви. Как я и ожидала, она оказалась очень благородной и культурной женщиной. Воспитывалась она в Нью-Йорке, в двуязычной семье первого поколения латышских иммигрантов. В Колумбийском университете получила докторскую степень по русскому языку и литературе, тридцать лет была профессором Вермонтского университета и да, конечно! — сотрудничала с нью-йоркским «Книжным обозрением». За обедом она вскользь упомянула о том, что ее муж — бывший ректор, ныне на пенсии и по большей части живет в Бостоне (наверняка с какой-нибудь экзотической хорватской любовницей), и у них свободные отношения в браке. Из этого я сделала вывод, что ректору плевать на то, что его жена спит с моим отцом, в чем я убедилась в тот же вечер. Меня слег-ка покоробило, когда часов в десять отец с Эдит извинились и пошли наверх. Я понимаю, что не стоило расстраиваться из-за этого, поскольку при мамином состоянии отца вполне можно было считать вдовцом, к тому же он и в браке никогда не отличался верностью. Или мне просто было неприятно из-за того, что эта женщина делит с отцом постель, которую когда-то он делил с мамой. А может, мне было неловко находиться под одной крышей с отцом, пока он занимался сексом с Эдит (если, конечно, в тот вечер у них был секс). И с чего вдруг он решил, что мне все равно, спят они или нет? Или отец рассудил, что меня, в мои пятьдесят с лишним лет, уже не волнуют подобные шалости?
Как бы то ни было, когда я проснулась утром, Эдит уже была на ногах и настояла на том, чтобы приготовить мне завтрак. Наливая мне чашку очень крепкого кофе, она пристально посмотрела на меня и спросила:
— Могу я говорить прямо?
— Э… конечно, — ответила я и внутренне напряглась в предвкушении новостей (успокаивало лишь то, что, по крайней мере, беременной она уж точно быть не может).
— Ты не одобряешь меня, верно?
— С чего ты так решила? — дипломатично спросила я.
— Ханна, я умею читать по лицам, и на твоем лице написано разочарование.
— Эдит, ты произвела на меня очень хорошее впечатление.
— Возможно. Но все равно ты не одобряешь наш роман. Да-да, Ханна, это роман… и очень счастливый для нас обоих.
— Что ж, тогда я за вас обоих рада, — сказала я и сама удивилась тому, как сухо это прозвучало.
— Мне бы хотелось в это верить, Ханна. Согласись, пуританская мораль здесь не к месту, n’est-ce pas[54]?
Отец между тем так и не спросил меня, что я думаю об Эдит. Впрочем, преодолев первоначальную неловкость (наверное, я все-таки пуританка в этих вопросах), я прониклась большой симпатией к Эдит и вскоре убедилась в том, что этот роман очень кстати в жизни моего отца, потому что, помимо приятной стороны дела, отец находился под постоянным присмотром.
— Постарайся не расстраиваться. — Голос отца вернул меня в «Оазис», к сэндвичу с сыром, который так и остался нетронутым.
— Я не расстраиваюсь. Просто меня ошеломило поведение Лиззи и то, что она просит тебя не говорить ничего мне, а меня просит не рассказывать отцу.
— Она иррациональна, а потому будет плести паутину собственной интриги, чтобы усилить мелодраму, которую она сама для себя придумала. Дэн ведь теперь в курсе происходящего?
— Конечно, и он совсем не рассердился на меня за то, что я так долго все скрывала. А она тебе рассказывала, что спит в машине, карауля своего доктора?
— О, да. Но знаешь, слава богу, прошлой ночью она все-таки осталась дома и даже поспала шесть часов, что для Лиззи сейчас очень даже неплохо.
— Откуда ты знаешь про это? — спросила я.
— Она мне сегодня утром звонила, как только проснулась.
— Какой у нее был голос?
— Отчаянно оптимистичный, что, возможно, звучит как оксюморон, но в случае Лиззи это как раз самое точное описание ее душевного состояния. Обнадеживает то, что ей удалось договориться о приеме у доктора Торнтона сегодня во второй половине дня. Это уже кое-что.
— Я обещала позвонить ей вечером.
— А она обещала позвонить мне, — добавил отец. — Она знает, что ты сегодня у меня?
— Нет, я не говорила.
— Тогда ты звони первая, а я подожду ее звонка.
Отец был прав: Лиззи сейчас была непредсказуема, и нам ничего не оставалось, кроме как томиться в неизвестности.
После ланча нас ожидало еще одно тяжелое испытание: визит к матери.
Лечебница находилась в тихом жилом квартале примерно в миле от университета Она занимала функциональное современное здание. Персонал был высококвалифицированным и внимательным; во всяком случае, все ходили с приклеенными улыбками. Отдельная комната матери была обставлена со вкусом, в стиле «Холидей Инн/Ральф Лорен/Дом престарелых». Но, несмотря на уютное убранство, я могла оставаться в этих стенах не больше получаса. Собственно, мама и не возражала против таких кратковременных визитов. Когда мы вошли к ней, она сидела в кресле, устремив взгляд в пустоту. Я присела рядом.
— Мама, это я, Ханна.
Она посмотрела на меня, но не узнала. Потом отвернулась и уставилась в стену.
Я взяла ее за руку. Она была хотя и теплая, но вялая. Раньше я еще пыталась разговаривать с матерью — рассказывала ей про успехи внуков, карьеру Дэна, про себя и свою работу в школе. Но месяц назад я прекратила это — было совершенно очевидно, что я не могу пробиться к ней, так что получалось, что я разговаривала сама с собой. И поскольку эти банальные монологи, казалось, лишь усиливали трагизм ситуации, я решила, что хватит. С тех пор я рассматривала эти визиты исключительно как возможность поддержать отца, потому что ему было тяжелее всех. Он изо всех сил старался не показывать виду, изображал стоическое спокойствие, когда сидел напротив нее. Он брал ее руку в свои ладони и просто поддерживал с ней физический контакт, минут десять. Потом осторожно высвобождал руки, вставал со стула, наклонялся, указательным пальцем приподнимал ее подбородок и нежно целовал в губы. От мамы не было никакой реакции. Как только он убирал свой палец, подбородок снова падал на грудь и там же оставался. Отец моргал и сглатывал ком, отворачивался от меня на какое-то мгновение, чтобы успокоиться. Достав из кармана брюк носовой платок, он промокал глаза, делал глубокий вдох, выравнивая дыхание, и снова поворачивался ко мне. Хотя мне и хотелось подойти к нему, обнять и утешить, я знала, что в такие минуты отца лучше оставить одного. Не могу сказать, что он плакал каждый раз, но если случалось такое, он не хотел, чтобы его утешали. Отец не был сторонником открытого проявления эмоций (старая аристократическая школа) и считал унизительным демонстрировать слезы и слабость на публике. Так что я оставила его наедине с мамой, подождала, пока он успокоится, повернется ко мне и скажет: «Э… ну что, пойдем?»