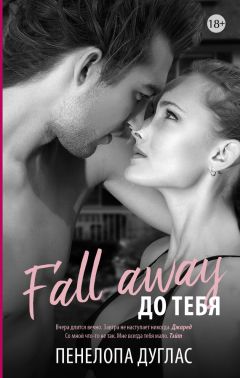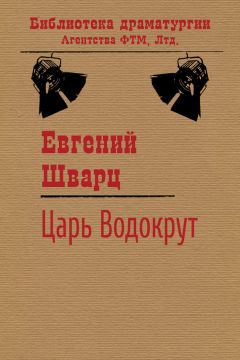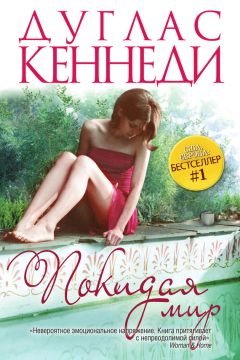Дуглас Кеннеди - Испытание правдой
А как насчет внуков? — подумала я, вспомнив, как мой отец однажды приехал на уик-энд в Бостон и пригласил свою внучку на ужин, а она настояла на том, чтобы оплатить счет. И когда джентльмен старой закалки вежливо напомнил ей, что платить за ужин положено мужчине, она сказала:
— Послушай, твоя внучка зарабатывает сто пятьдесят тысяч в год, я же не студентка малолетняя.
Отец был шокирован ее доходами. Он в жизни столько не зарабатывал, и это противоречило его эгалитарным принципам. Но Лиззи, настоящая корпоративная штучка, не шла ни в какое сравнение с Джеффом, из которого получился преданный республиканец и фанат Буша. Этого отец уж никак не мог понять. Пару раз он интересовался у меня, что мы с Дэном такого сделали, что мальчишка пополнил ряды консерваторов. На это у меня нашелся только один ответ:
— Пойми, он решил взбунтоваться не потому, что вырос в коммуне хиппи или был воспитан родителями-наркоманами.
И мы не отправляли его на лето в лагерь молодых троцкистов Эммы Гольдман. Черт возьми, ты же знаешь Дэна, он никогда не интересовался политикой. Сама не пойму, когда Джефф успел перевоплотиться в правоверного. Для него Америка — страна, избранная Богом, а республиканцы отстаивают истинные ценности. Мне иногда кажется, что в нем играет запоздалое подростковое бунтарство.
Отец действительно принимал близко к сердцу консерватизм Джеффа. Он видел в нем категорическое опровержение своих идеалов. Когда в прошлом году он гостил у нас на Рождество — поразительно живой и активный в свои восемьдесят два года, — то попытался втянуть Джеффа в политическую дискуссию, ведь если что отец и любит по-настоящему, так это дебаты до хрипоты. Но Джефф не принял вызов и всякий раз, когда отец отпускал какую-нибудь антибушевскую тираду, сразу менял тему, а то и вовсе выходил из комнаты.
— Почему ты не поговоришь с дедом? — спросила я Джеффа после того, как отец попытался покритиковать новый Закон о патриотизме.
— Я ним разговариваю, — ответил сын.
— О, я тебя умоляю. Стоило ему обмолвиться о твоем любимом президенте, как ты извинился и вышел из-за стола.
— Я просто хотел проверить, как там Эрин. И между прочим, Буш и твой президент тоже.
— Есть мнение, что настоящим избранным президентом был Эл Гор.
— Опять ты туда же, со своей либеральной агитацией.
Опять ты туда же. Не этой ли фразой Рейган добил Картера во время предвыборных дебатов?
— Я и не знала, что, оказывается, занимаюсь либеральной агитацией.
— Все в этой семье только этим и занимаются. Это у вас в крови.
— Думаю, ты преувеличиваешь…
— Хорошо, я знаю, что отца не назовешь оголтелым левым…
— Вообще-то он республиканец.
— Но он все равно поддерживает кандидатов, которые выступают за разрешение абортов. А уж если взять нашего горячо любимого деда… вся история его жизни и досье, которое имеется на него в ФБР, говорят сами за себя…
— А то, что этот восьмидесятидвухлетний старик столь высокого мнения о тебе…
— Нет, его высокого мнения заслуживает только собственный голос. И я читал про его «героическую» роль «в борьбе» против институтов нашей страны в шестидесятых.
— Но это было больше тридцати пяти лет назад, ты еще не родился. В любом случае, будь ты тогда студентом, то оказался бы вместе с ним на баррикадах.
— Не уверен, — сказал он. — Мои политические взгляды не зависят от моды.
А разве сегодня не модно быть консерватором? Этот вопрос вертелся у меня на языке. Черт возьми, ты и твои «друзья» господствуете в средствах массовой информации. У вас собственный новостной канал, который вещает то, что вы хотите слышать. У вас свои горластые комментаторы, которые заткнут рот любому, кто не согласен с ними. И обстановка в стране после 11 сентября настолько нервная, что, если кто-то и осмелится критиковать администрацию, такие, как ты, мой дорогой сынок, тотчас же поставят под сомнение его патриотизм.
Патриотизм… какая странная мания.
— Послушай, Джефф, — сказала я. — Сегодня Рождество. И тебе, как истинному христианину, должно быть известно, что в этот праздник следует проявлять толерантность к окружающим, тем более если…
— Пожалуйста, не говори со мной, как с двенадцатилетним ребенком, — перебил он. — И не хватало еще, чтобы лекции о христианстве мне читал атеист.
— Я не атеистка. Я принадлежу к унитарной церкви.
— Это одно и то же.
После праздничного застолья все разошлись. Джефф и Шэннон поднялись к себе в спальню, Лиззи укатила с друзьями в популярный у молодых профессионалов ночной бар Портленда, а Дэн пошел смотреть программу «Вечерней строкой». Со мной в гостиной остался лишь отец, который расположился у камина и с грустным видом потягивал виски. («Мой врач говорит, что один стаканчик в день улучшает кровоток».)
— Тебе не кажется, что старость особенно печальна не только предчувствием скорого конца, но и осознанием того, что мир окончательно отвернулся от тебя? — вдруг спросил он.
— Разве не к каждому человеку в определенном возрасте приходят такие мысли? — ответила я вопросом на вопрос.
— Наверное, — согласился он, глотнув виски. — Думаю, любая жизнь сродни политической карьере. В лучшем случае заканчивается сожалением, в худшем — неудачей.
— Ты сегодня склонен к меланхолии, — заметила я.
— Сыночка своего благодари. Что случилось с этим мальчиком?
— Этому мальчику скоро тридцать, и он считает, что знает ответы на все вопросы.
— Убежденность — опасная штука.
— Но у тебя тоже всю жизнь были сильные убеждения, отец.
— Верно, но я никогда не утверждал, что знаю ответы на все вопросы. Как бы то ни было, в те времена у нас были серьезные основания для выступлений против коррупционного правительства, развязавшего коррупционную войну. Сейчас у нас тоже есть законное недовольство коррупционным правительством, но никто не рвется на баррикады.
— Все слитком заняты тем, что делают деньги и тратят их, — сказала я.
— Тут ты права. Шопинг стал главной культурной составляющей нашего времени.
— Только не говори это Джеффу. Его компания — как бы это выразиться? — «крупнейший в мире корпоративный страховщик торговых точек». И он не потерпит ни одного грубого слова в их адрес, потому что, по его словам, они проводники здоровой американской идеологии потребления, бла-бла-бла…
— Он в самом деле презирает меня?
— Нет, пап. Он презирает твои политические взгляды. Но не принимай это на свой счет. Он презирает любого, кто не разделяет его убеждений. И я часто задаюсь вопросом: если бы мы воспитывали его в строгой вере, запрещали общаться с безбожниками, отправили учиться в жесткую военную школу…
— То сейчас он, возможно, читал бы Наоми Кляйн[53] и ходил на антиглобалистские марши, — сказал отец. — Да, кстати, мягких военных школ не бывает. Так что твоя «жесткая военная школа» — это тавтология…
— Узнаю педанта, — улыбнулась я.
— Ты сейчас говоришь, как твоя мать.
— Нет, она бы сказала: «Педант хренов»… Давно ты был у нее? — спросила я.
— Недели две назад. Все без изменений.
— Мне как-то не по себе, оттого что я редко выбираюсь к ней.
— Она все равно не узнает тебя, так какой смысл ехать? Я всего в двадцати минутах от госпиталя и то могу выдержать это испытание раз в две недели, не чаще. Честно говоря, если бы в нашей проклятой стране разрешили эвтаназию, я уверен, Дороти была бы счастлива покончить со всей этой канителью. Альцгеймер — это жестоко, черт возьми.
Я сглотнула подступившие слезы. Нахлынули воспоминания о последнем визите в частную лечебницу, где теперь жила мама. Хрупкая, сгорбленная старушка, она целыми днями сидела в кресле, устремив неподвижный взгляд в пустоту, не ведая, что творится вокруг, не узнавая ни одного лица. Она жила, но с мертвой душой и начисто выскобленной памятью, в которой не осталось и следа от прожитых семидесяти девяти лет. Ранняя стадия болезни Альцгеймера, которая проявилась у нее пять лет назад, напоминала постепенное погружение в темноту, когда короткие замыкания электрической цепи чередуются редкими вспышками света. И вот, года два назад, тоже в Рождество, наступил блэкаут. Отец вернулся домой из университета — он еще держал там свой офис — и обнаружил, что мамы больше нет. О, физически она присутствовала в комнате, но ее разум померк. Она не могла говорить, фокусировать взгляд и даже не реагировала на внешние раздражители — прикосновение или голос.
Он сразу же позвонил мне в Портленд. Я попросила директора школы найти мне замену на несколько дней и тем же вечером выехала в Берлингтон. Хотя я давно знала, что этот день неизбежно настанет — болезнь Альцгеймера имела чудовищно предсказуемую развязку, — у меня сдали нервы, когда я увидела свою мать, застывшую на диване в гостиной, с теперь уже безнадежно поврежденной психикой. В те первые страшные минуты я почему-то подумала о том, что для меня она всегда была стремительной, беспокойной, мощной силой, а сейчас от нее осталась лишь эта телесная оболочка, которую надо кормить и пеленать, как ребенка. Мне безумно хотелось повернуть время вспять, вычеркнуть из него склоки и взаимные обиды, ведь только теперь я поняла, насколько они мелочны и никчемны.