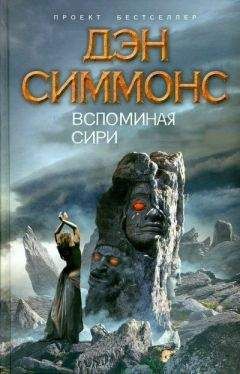Сири Хустведт - Печали американца
Сон — штука экономная, все наперечет. Дымящееся небо 11 сентября, телевизионные кадры событий в Ираке, снаряды, взрывавшиеся на прибрежной полосе, где мой отец окопался в феврале сорок пятого, — все рвануло в унисон на родных сельских просторах Миннесоты. Три детонации. Три поколения одной семьи, трое мужчин под крышей дома, разваливающегося на куски, дома, полученного мной в наследство, дома, дрожащего и трясущегося, как тело моей племянницы, как мое собственное загнанное в угол тело, внутренние катаклизмы которого ассоциировались для меня с двумя людьми, давно покойными. Мой дед кричит во сне. Мой отец пробивает кулаками потолок у себя над кроватью. Меня трясет.
Девятого октября Бертон позвонил мне и срывающимся голосом объяснил, что полторы недели назад похоронил мать, отсюда вынужденный перерыв в нашем общении. Через месяц ей должно было исполниться девяносто. Историю его семьи я представлял себе в самых общих чертах. Его родители, немецкие евреи, перебрались в Нью-Йорк в конце тридцатых. Мать, как я припоминаю, была учительницей, отец занимал какой-то пост в Нью-Йоркском обществе этической культуры.[68] Бертон родился, когда матери было за сорок, так что он называл себя «запоздалым сюрпризом». Когда в 1995 году отец умер, Бертон переехал к матери в Ривердейл, что позволило и сыну не пойти с сумой, а миссис Б., которая слабела не по дням, а по часам, дожить свой век дома.
Когда неделю спустя мы встретились, мне сразу бросилось в глаза, что Бертон выглядит посуше. Он по-прежнему лоснился, но потом не истекал. Я постарался обойти сей факт молчанием, но он первым отважился упомянуть, что в его гипергидрозе наметилась положительная динамика.
— Я в некотором, как бы это сказать, смятении. Мне невероятно неловко упоминать об изменении в моем соматическом состоянии в присутствии психоаналитика, зная при этом, что потоотделение, точнее — резкое его сокращение в настоящий момент, в связи с кончиной матери, может быть истолковано как нечто…
Бертон помолчал и утер лоб, как я заметил, скорее по привычке, чем по необходимости. Наконец искомое слово было найдено:
— …Как нечто симптоматическое.
— Старина, горе влияет на людей по-разному. Я бы не стал слишком пристально анализировать то, что тебе явно на пользу.
Бертон залился румянцем. Он упорно разглядывал скатерть.
— В последний месяц мать меня не узнавала.
— Это очень тяжело.
Он кивнул.
— Инсульт. Кровоизлияние в мозг. Изменение типа личности.
Он насупился.
— Она помягчела. Я не знал, как реагировать на ее смех, совершенно неуместную веселость: бесконечные смешки, хихиканье, улыбочки. Но, надо признать, это лучше, чем злоба, безусловно. Я ведь читал о пациенте, начавшем после инсульта кусаться. Доходило до серьезных повреждений. Родным пришлось несладко.
Бертон поднял голову.
— Об этом, наверное, даже и говорить не стоит, но я все-таки скажу. Когда она стала угасать, ее самой не стало, она исчезла. И я тосковал по ней, прежней, несмотря на все ее… все ее экивоки. Да, представь себе, мне не хватало той, несговорчивой, противоречивой, издерганной, даже ядовитой местами, какой она была…
Он опять подыскивал слово и, наконец, произнес:
— …Во время оно.
Кроме нас в ресторане уже никого не осталось, мы были последними. Официанты нетерпеливо посматривали в нашу сторону, а Бертон все рассказывал мне о смерти матери и о своих, как он это назвал, «изменившихся обстоятельствах». Ему осталась родительская квартира и наследство, не золотые горы, конечно, но более чем достаточно для того, чтобы на долгие годы перестать думать о деньгах.
— А вдруг, — проронил он с загадочной улыбкой, — их можно обратить на благо достойному.
Когда мы ловили такси, которые должны были развезти нас по домам, Бертон схватил меня за руку, дернул ее вниз и сказал:
— Я не нахожу слов, чтобы выразить, сколь велика для меня ценность нашей прервавшейся на несколько лет дружбы, вновь обретенной после зияющего пробела. Благодарность моя тем полнее, чем отчаяннее сейчас моя борьба, скажем так, со звериной тоской. Это, разумеется, метафора.
Такси мчалось по Рузвельт-драйв. С противоположного берега Ист-Ривер была видна гигантская реклама «Пепси», парящая в черном небе. Почему-то мне она показалась прекрасной. В тот момент мерцающий логотип вышедшего в тираж символа американского капитализма приобретал привкус утраты, словно воплощение некоей коллективной мечты, которая давно развеялась. Смешно было вообще испытывать хоть какие-то чувства по отношению к рекламе газировки, но когда она растаяла вдали, я подумал: они уходят, уходят один за другим, наши отцы, наши матери — переселенцы и изгнанники, солдаты и беженцы, мальчики и девочки «времен оных».
Второго октября мисс Л. с улыбкой сообщила мне, что мы разрываем отношения. Она побывала на приеме у гемматерапевта и походила на групповые занятия для «жертв насилия», где собираются люди, которые ее «понимают по-настоящему». Некоторые из них отчетливо помнят себя и в год и в два. В эти силки массовой культуры она попадалась уже не в первый раз, но тут я особенно остро ощутил, что ее расщепленный мир питается примитивными категориями, о которых трубят в прессе и интернете. В ее разговорах со мной звучали отголоски расхожих штампов из демагогического языка пропаганды и новостных выпусков. Она говорила, но была в этот момент не здесь. Я сказал ей все это и спросил, обдумала ли она свое решение. В ответ она провизжала: «Да!!!», вскочила со своего кресла, плюнула мне в лицо и выбежала вон, не забыв при этом на прощание хлопнуть дверью.
Я вытер брызги слюны салфеткой и так и сидел, не шевелясь, до конца приема. Я знал, что она не вернется. В конце концов, я был всего лишь крайним в длинной череде аналитиков и психотерапевтов, от которых она уходила вот так же, хлопнув дверью. Бросай сама, пока не бросили тебя. Единственное, чего мне было искренне жаль, так это ее попыток приоткрыться, этих мучительных движений к иному способу бытия. При всей своей изломанности, мисс Л. прежде всего была заброшенным, нежеланным ребенком. И пусть на теле, как бы ей этого ни хотелось, шрамов не осталось, они изранили ее душу. Этот псевдокризис пусть частично, но коррелировался с воспоминаниями, пусть неотчетливыми и смутными. Физическая боль, на самом деле причиненная ей руками матери, сделала бы ее терзания правомерными, раз и навсегда обеспечив ей место среди «малолетних жертв насилия». Единственным ее утешением было хотя бы думать так. Это полностью соответствовало ее внутренней картине мира, конструкции столь жесткой и хрупкой, что стихийные возгорания были просто неизбежны. Все это я хорошо знал, но между нею и мной существовала еще одна зацепка — страх. Мой страх. Мисс Л. благодаря своему обостренному восприятию уловила запах чего-то, не осознанного пока даже мной самим.
На следующей неделе в субботу около полуночи я возвращался от Лоры пешком. Перед тем как подняться к себе, я замешкался внизу, пытаясь нашарить в карманах ключи. В этот момент раздался чей-то тревожный шепот, потом дверь в квартиру Миранды хлопнула, и не успел я понять, что происходит, как оказался лицом к лицу с Джеффри Лейном. Он ухмыльнулся, не пряча глаз:
— Ну, как оно все?
— Нормально, а вы как?
— И я нормально.
Я вертел ключи в руках.
— Ну ладно, — сказал Лейн, — пока, что ли.
Скользнув мимо меня, он выскочил на улицу и бросился бежать. Я смотрел ему вслед. Почему — не знаю, но я стоял и смотрел, пока его силуэт не растворился в темноте. Не подожди я эти несколько минут, я не услышал бы, как плачет Миранда. Шторы в гостиной были задернуты, но окно чуть приоткрыто, и пока я тяжело переставлял по лестнице ноги, словно налитые свинцом, у меня в ушах звучали ее приглушенные всхлипы.
Я открыл дверь, вошел, сел в зеленое кресло, где читал по вечерам, и впервые за долгое время понял, что в голове у меня нет ни единой мысли. Час или больше я вслушивался в ночные звуки: шум машин, приглушенные голоса из чьего-то телевизора, отдаленную музыку, смех с улицы. Но Миранды я не слышал. Может, она вытерла слезы и легла спать.
Ингин звонок раздался после длинного рабочего дня. У меня на приеме было два новых пациента, которым порекомендовали ко мне обратиться, да еще мистер Р. сообщил, что от него уходит жена. Миссис Р. не хотела видеть рядом с собой того нового человека, который в ходе наших сеансов вдруг заметил, что мир приобрел необычайную тревожащую яркость. Ее муж стал больше смеяться, больше грубить, больше видеть. И секса ему тоже надо было больше, хотя объект его восстановленного либидо принял сие в штыки. «Окостенелый я был ей больше по душе». Я как раз просматривал свои записи по приемам, когда зазвонил телефон и в трубке раздалась страстная скороговорка моей сестры: