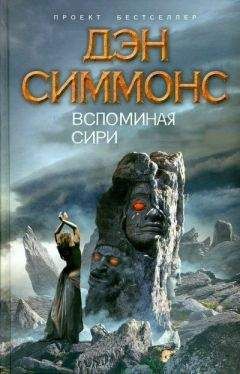Сири Хустведт - Печали американца
Одинокое существование мало-помалу меняло меня, превращая в человека, от которого я не всегда знал, чего ждать, куда более странного, чем я всегда считал, способного бродить по комнате чужой женщины и хрипло дышать, стремясь пальцами к ручкам ее комода и не смея дотронуться до них. Я часто думал, что мы не те, кем себя воображаем, что каждый пытается нормализовать неведомый ужас внутренней жизни с помощью множества удобных выдумок. Я не собирался обманывать себя, но прекрасно понимал, что под тем естеством, которое я почитал истинным, скрывается другой человек, блуждающий в параллельном мире, сотканном из слов Миранды, по незнакомым улицам, мимо домов с совершенно иной архитектурой.
Я все так же не находил себе места. Днем в присутствии пациентов мне как-то удавалось держать себя в руках. Тяжелее всего приходилось ночью, когда я пробуждался от кошмарных снов с колотящимся сердцем. Я исправно звонил Лоре, и весь знойный август мы встречались как минимум два раза в неделю, но непременно в те дни, которые ее сын проводил у отца. Где-то в середине месяца она, уписывая за ужином ньокки, сообщила, что не готова к «серьезным отношениям». Я выложил без обиняков, что ее общество мне нравится, но я никоим образом не выставляю свою кандидатуру на роль следующего мужа и готов довольствоваться положением промежуточного варианта, способного облегчить ожидание грядущих брачных восторгов. Подобно стеганому одеяльцу или плюшевому мишке, буду рад служить, пока во мне есть нужда. Лора расхохоталась и тряхнула головой:
— На самом деле ты хотел сказать, что не прочь иметь подружку для постели, так?
Я, помявшись, согласился. С облегчением, прояснив истинную природу нашей связи, мы с чистой — по крайней мере так мне казалось — совестью принялись упиваться друг другом. К концу лета Лора Капелли по-настоящему запала мне в душу. Я все время ловил себя на том, что думаю о темных завитках волос на ее шее, об оливковой коже, чуть отливающей зеленью, о раскатистом хохоте, о пышной груди, о заветных маминых рецептах рубца и телятины, которые она обожала диктовать в постели, о способности передразнивать, один в один, Мортона Соломона, психоаналитика восьмидесяти с лишним лет, хорошо знакомого нам обоим: не было такой конференции или семинара, чтобы его тягучий монотонный голос с неистребимым немецким акцентом не бубнил что-нибудь про Фрейда, упорно и настойчиво излагая свои соображения по поводу какого-нибудь понятия (к числу особых фаворитов следовало бы отнести Ichspaltung, или «расщепление Я»), об обыкновении в минуты наивысшего возбуждения воздевать указательный палец и трясти им и о коротеньких взвизгах, слетавших с ее губ во время оргазма.
Мои жилички вернулись, но мы практически не виделись. В издательском деле август считался мертвым сезоном, я узнал об этом от Миранды, когда однажды утром столкнулся с ней по дороге на работу, так что они с Эгги пропадали у знакомых в Массачусетсе, уезжая с пятницы до понедельника. Инга и Соня тоже сбегали из города на экскурсии в Коннектикут и Хэмптонз, и только я торчал в Бруклине, трясся в метро, вдыхая запахи мочи, пота, немытых тел и все больше и больше проникаясь чувством жалости к самому себе.
В начале учебного года Соня перевезла вещи в общежитие Колумбийского университета. Вечером десятого сентября она приехала к матери и осталась ночевать. По Ингиным словам, все было замечательно, они поужинали и легли спать. На следующее утро Соня проснулась, вышла на кухню, но, вместо того чтобы, как всегда, подойти к холодильнику и достать апельсиновый сок, почему-то застыла у окна. Инга читала газету и пила кофе. Соня несколько мгновений стояла неподвижно, потом обхватила голову руками и закричала:
— Я не хочу так жить! Не хочу!
Захлебываясь от рыданий, она рухнула на колени. Инга пыталась удержать ее. Девочка билась и вырывалась, но Инге удалось обхватить ее за плечи, притянуть к себе и начать укачивать. Соня плакала и плакала, а мать все качала ее. Так прошел день, наступил вечер. Соня начала говорить. Она говорила, плакала, снова говорила, снова плакала.
С одиннадцатого сентября 2001-го прошло два года. Вторая годовщина раскрыла в Соне какую-то внутреннюю трещину, щель, через которую выплеснулись гремучие переживания, терзавшие ее два года. Пожарище, стольких сожравшее, гнавшее людей вон из помещений, в окна, на карнизы, с которых они, объятые пламенем, прыгали вниз, оставило свои неописуемые отметины в ее душе. Инга сказала мне, что за все эти часы ни на секунду не отпускала дочь от себя. Даже на кухне, когда она делала им обеим сэндвичи, Соня была с ней рядом, и пока она резала хлеб и мазала его маслом, дочкина рука держала ее за пояс. Соня не хотела жить в мире, где рушатся дома, где войны начинаются на пустом месте. И никакого брата она не хотела, и этой бывшей актрисульки тоже. Она так и сказала матери, что ненавидит их и хочет только, чтобы папа был жив и у него можно было попросить прощения.
Закончив прием последнего пациента, я включил голосовую почту, прослушал сообщение Инги и сразу же помчался к ним на Уайт-стрит. К моему приезду обе они затихли, наверное, от изнеможения. В их движениях была заторможенность и скованность, как у больных артритом. Я положил Соне руку на плечо. Она подняла распухшее от слез лицо, чуть всплеснула руками и обвила меня за талию. Слова тут были бессильны. Сонины воспоминания из памяти не сотрутся, в мире ежедневно будут твориться новые зверства, Макса не воскресить, и маленький мальчик, случайно оказавшийся ее братом, сам собой не рассосется. Правда, теперь Соня знала, что она сильнее собственной боли и может ее пережить. И Инга тоже.
Только перед самым уходом я увидел куклу, одиноко сидевшую на полке среди книг.
— Так ты все-таки купила одну из Лорелеиных фигурок?
Инга кивнула:
— Сперва выбрала вдову, почти купила, но потом решила, что это как-то уж слишком по-мазохистски, так что вот, теперь у нас такой вот малыш.
Я наклонился, чтобы получше рассмотреть мальчугана, одетого в темный костюмчик. Он сидел на деревянном стуле, уронив светловолосую голову на грудь, с выражением скорби, застывшим на вышитом личике.
Несколько минут мы молчали.
— Она сказал, что его отца убило молнией. Это он перед похоронами.
— Я все-таки не понимаю, тебе-то зачем все это нужно?
Инга медленно провела пальцами по моей щеке, потом еще раз и еще. Глаза ее казались запавшими.
— Все это ерунда, — устало бросила она. — Если я и сумасшедшая, то ничуть не больше обычного.
Ночью мне снилось, что я на дедовой ферме стою рядом с виноградной беседкой слева от пристройки. Передо мной расстилаются поля. Сон был нецветным, так что все вокруг казалось серым. Рядом со мной стоит отец, все еще молодой и прямой, но отчетливо лица или фигуры я не вижу, только чувствую его присутствие в нескольких метрах от себя и понимаю, что он тоже смотрит на запад. Потом прямо у нас на глазах где-то вдали гремит взрыв, и в воздух поднимается косматое облако дыма, потом еще и еще — три гигантских клуба, заполонивших небо. Сзади раздается знакомый голос, который я сразу узнаю, — голос деда:
— Ба-бах!
Внезапно какая-то безудержная сила тащит нас назад, в дом, и мы с отцом, едва не упираясь макушками в потолок, оказываемся втиснутыми в крохотную каморку, не то чулан, не то чердак, который начинает ходить ходуном, все неистовее, и я снова слышу голос деда. Я знаю, он рядом, но головы не поворачиваю. Он произносит слово «трясет», а потом «землетрясение». Стены раскалываются на куски и рушатся, и тут я просыпаюсь.
Сон — штука экономная, все наперечет. Дымящееся небо 11 сентября, телевизионные кадры событий в Ираке, снаряды, взрывавшиеся на прибрежной полосе, где мой отец окопался в феврале сорок пятого, — все рвануло в унисон на родных сельских просторах Миннесоты. Три детонации. Три поколения одной семьи, трое мужчин под крышей дома, разваливающегося на куски, дома, полученного мной в наследство, дома, дрожащего и трясущегося, как тело моей племянницы, как мое собственное загнанное в угол тело, внутренние катаклизмы которого ассоциировались для меня с двумя людьми, давно покойными. Мой дед кричит во сне. Мой отец пробивает кулаками потолок у себя над кроватью. Меня трясет.
Девятого октября Бертон позвонил мне и срывающимся голосом объяснил, что полторы недели назад похоронил мать, отсюда вынужденный перерыв в нашем общении. Через месяц ей должно было исполниться девяносто. Историю его семьи я представлял себе в самых общих чертах. Его родители, немецкие евреи, перебрались в Нью-Йорк в конце тридцатых. Мать, как я припоминаю, была учительницей, отец занимал какой-то пост в Нью-Йоркском обществе этической культуры.[68] Бертон родился, когда матери было за сорок, так что он называл себя «запоздалым сюрпризом». Когда в 1995 году отец умер, Бертон переехал к матери в Ривердейл, что позволило и сыну не пойти с сумой, а миссис Б., которая слабела не по дням, а по часам, дожить свой век дома.