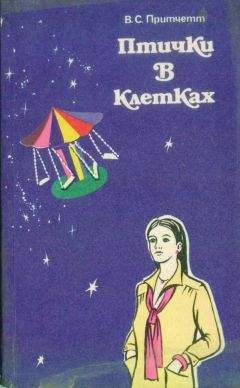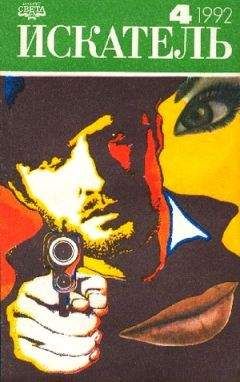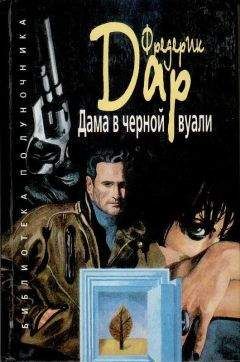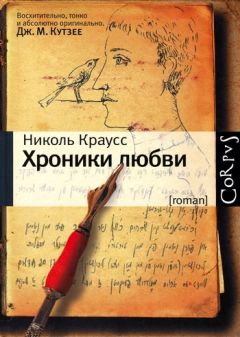Николь Краусс - Большой дом
Адам предпринял тщательный осмотр всей квартиры, пооткрывал ящики буфета и даже повернул тоненький ключик в стеклянных створках серванта, чтобы осмотреть небольшую коллекцию еврейских сувениров. Потом отправился в туалет и облегчился длинной струей — дверь он оставил приоткрытой, и я все услышала. Затем мы покинули квартиру, ступив в темноту на лестничной площадке. Спускаясь на лифте, мы продолжали обсуждать стол и после, в полутемном баре, о чем бы ни зашла речь, неизменно возвращались к столу, так что мне почуялась какая-то недосказанность, невысказанность, словно на самом деле мы вели переговоры, в которых стол являлся символом и имел некое скрытое значение.
Затем, ваша честь, последовала череда дней, вспоминать которые мне горько и тошно, да и вас мне неловко обременять подробностями.
Вот мы в дорогом итальянском ресторане, Адам в рубашке и джинсах, которые он носит, не меняя, уже четыре дня, у меня налито вино, у него пиво, он подносит свою кружку к моему бокалу, чокается и спрашивает с улыбкой заговорщика, сочинила ли я уже про него книгу. Мы едим одну порцию тирамису на двоих, из одной тарелки двумя ложками, я не спешу, позволяю ему съесть большую часть, а он, как шарманщик с одной и той же убогой мелодией, снова уговаривает меня купить стол. Он прощупал ситуацию, он считает, что сможет заставить Гэда уступить, хотя не стоит забывать, что это единственная в своем роде вещь, штучная, старинная, авторская работа, и если он решит продавать ее по рыночной цене, выручит в разы больше. Я подыгрываю, делаю вид, что потрясена его деловой хваткой, а на самом деле жажду прикоснуться ногой к его ноге под столом. И все бы ничего, и я почти верю собственным словам, пока внезапно, с рвотным спазмом в груди, не сознаю, что стол мне, возможно, вовсе не нужен, потому что не факт, что я напишу в жизни хоть строчку.
А вот мы обедаем в Доме Тихо, в кафе, потому что один приятель сказал Адаму, что здесь тусуются писатели. Я в легком, воздушном платье с цветочным рисунком, на плече лиловая замшевая сумочка с отделкой из золотой парчи, все это я накануне увидела в витрине бутика и купила не раздумывая. Я давным-давно ничего себе не покупала, новые вещи меня странно возбуждают, и кажется, что с ними вот так легко и начнется новая жизнь. Лямки платья соскальзывают, и я их уже не поправляю. Адам играет со своим телефоном, встает, выходит позвонить и, возвратившись, выливает мне в стакан остатки сверкающей газировки. Кто-то когда-то преподал ему азы галантности, а он воспринял их и творчески переработал, обратил в собственный беспорядочный кодекс чести. Например, он всегда идет не вместе со мной, а чуть впереди, так что я всегда вынуждена догонять. Но когда мы подходим к двери, он распахивает ее и ждет, чтобы я, отставшая, вошла внутрь первой. Мы часто ходим молча, без разговоров. Беседа меня уже не интересует.
А вот мы в баре на Хелени а-Малка. Подъезжают друзья Адама, те самые, с которыми мы ели под фиговым деревом, среди них девушка в красном платье (теперь она в желтом) и ее подруга с темной челкой. Они здороваются, целуют меня в щеку, как будто я — своя. На сцене извиваются гитаристы, наяривают ударные, толпа беспорядочно хлопает, из-за барной стойки доносится свист, и я прекрасно знаю, что нет, я — не своя, я тут совершенно чужая и чуждая, но меня переполняет благодарность: они меня приняли. Мне хочется взять девушку в желтом платье за руку и пошептаться с ней, но я не знаю о чем. Музыка все громче, все менее мелодична, вокалист надрывается сиплым прокуренным голосом, но я терплю, я не хочу быть белой вороной, не хочу выпендриваться. И все же я не выдерживаю этого нарочитого, эпатажного исполнения и отхожу к бару — взять себе вина. Неожиданно рядом возникает девушка с челкой. Она что-то кричит, но голосок у нее тонкий, и музыка его заглушает. Что? — кричу я в ответ, пытаясь прочитать по ее губам. Она повторяет, хихикает, явно что-то об Адаме, а я по-прежнему не понимаю, и на третьей попытке она просто вопит мне в ухо: он влюблен в свою кузину. Девушка отклоняет голову и, сдерживая смешок, проверяет, услышала ли я на этот раз. Я шарю взглядом по лицам и наконец нахожу в толпе Адама, он жонглирует зажигалкой, певец теперь поет тихонько, почти шепотом, я оборачиваюсь к девушке и улыбаюсь, всячески показывая, что ей известно не все, далеко не все. Потом я отхожу в сторонку. Выпиваю бокал. Беру еще. Вокалист снова начинает орать, зато музыка становится мелодичнее, веселее, и внезапно Адам подходит сзади и хватает меня за руку, тащит наружу, и я знаю, что ждать мне осталось недолго. Мы садимся на мотоцикл — я теперь очень лихо взбираюсь на мотоцикл и приникаю к Адаму сзади, всем телом. Я не спрашиваю, куда мы едем, потому что поеду куда угодно.
Мы входим в полутемный подъезд, где живет Гэд. Адам что-то поет, отчаянно фальшивя, и поднимается по лестнице по две ступени зараз. Я запыхавшись спешу следом. Внутри все по-прежнему, только Гэда нет дома. Адам шарит по ящикам и полкам, а я включаю стереосистему — я точно знаю, что именно он ищет и что сейчас произойдет. Компакт-диск щелкает, оживает, из динамиков вырывается музыка, я, кажется, начинаю раскачиваться в такт. Выключи, говорит он, подходя ко мне сзади, и я, еще не почувствовав его прикосновения, ощущаю его запах, как животное, как самка. Зачем выключать? — спрашиваю я и поворачиваясь с кокетливой улыбкой. Затем, отвечает он, а я думаю: ну и хорошо, в тишине даже лучше. Я тянусь к нему, обнимаю его лицо, со стоном вжимаюсь в него всем телом, прижимаюсь лобком к заветному бугру, приоткрываю рот, раздвигаю своими губами его губы, проникаю языком в жаркий рот… я изголодалась, ваша честь, я хотела всего и сразу.
Это длится всего мгновение. И он отталкивает меня, отбрасывает прочь. Отцепись, рычит он. Я не понимаю, снова тянусь его обнять. Адам отталкивает мое лицо всей ладонью, с такой силой, что я падаю на диван. Он вытирает свои губы рукой, на пальце — связка ключей от квартиры, набитой вещами покойников. До меня вдруг доходит, что все не так, эти люди вовсе не умерли. Ты спятила? — шипит он. В глазах его злость, враждебность и что-то еще, неуловимо знакомое. Ты же мне в матери годишься! Он сплевывает. Я ему отвратительна.
Я лежу распростертая на диване, потрясенная, униженная. Он направляется к двери, но потом вдруг останавливается. Лиловая замшевая сумочка лежит на подзеркальнике у входа, я сама оставила ее там, когда мы вошли. Он берет сумку, и у него в руках она обретает свои истинный вид — мы с ней обе абсурдны и жалки. Не сводя с меня глаз, он сует руку в сумку по самый локоть и начинает там шарить. Не найдя того, что ищет, он вытряхивает все содержимое на пол. Быстро наклоняется, выхватывает из кучи мой кошелек. Отбросив сумку, он пинает ее напоследок, откидывает с дороги и, смерив меня презрительным, полным отвращения взглядом, выходит вон. Дверь оглушительно хлопает. Моя помада все катится и катится по полу, до самой стены.
Остальное едва ли имеет значение, ваша честь. Скажу только, что опустошение меня объяло бездонное, зато снесенная крыша встала наконец на место. Да кто он такой, в конце-то концов? Не более чем иллюзия, которую я сама же создала, чтобы услышать ответ, который знала, всегда знала, но признаться себе в этом не решалась. Наконец я кое-как поднялась и дрожащей рукой подставила стакан под кухонный кран. Взгляд мой упал на стоявшую рядом вазочку с мелочью и ключами от машины Гэда. Колебаний не было. Я взяла ключи и вышла из квартиры, даже не наклонившись за рассыпанным содержимым собственной сумочки. Автомобиль стоял на другой стороне улицы. Я отперла дверцу и села за руль. В панорамном зеркале заднего обзора я отразилась вся, без утайки: лицо опухло от слез, волосы спутаны до колтунов и в них явственно сквозит седина. Старуха, подумала я тогда, сегодня я стала старухой. И чуть не рассмеялась ледяным смехом — а что еще могло вырваться из ледяной пустоты, царившей внутри меня?
Машина, стоявшая двумя колесами на краю тротуара, грузно подпрыгнув, съехала на дорогу. Прямо, до конца улицы, теперь направо… Добравшись до знакомого перекрестка, я свернула в направлении Эйн-Карем. Я вспомнила о старике с улицы Ха-Орен. Нет, к нему я не собиралась, но отчего-то поехала. Вскоре я заблудилась. Фары посылали лучи меж деревьев, отсчитывая ствол за стволом — дорога вела в Иерусалимский лес, а потом, по его краю, постепенно спускалась в ущелье. Достаточно чуть вильнуть — и машина полетит вниз, в черную тьму. Вцепившись в руль так, что побелели костяшки пальцев, я представила беспорядочно кувыркающиеся снопы света от фар, а потом, на дне, перевернутые колеса, которые долго еще вращаются в тишине. Но я не могу, во мне нет того, что позволяет человеку покончить с собой. Я ехала дальше. Мне вдруг вспомнилась бабушка, которую я до самой ее смерти навещала на Вест-Энд-авеню. Потом я стала вспоминать свое детство, мать с отцом, которых тоже давно нет на свете, но от этого я не перестаю быть их дочерью, этого не изменить, как не изменить тошнотворных свойств моего ума и характера. Мне сейчас пятьдесят лет, ваша честь. И я знаю, что ничто в моей жизни уже не изменится. Очень скоро, пусть еще не завтра и не на следующей неделе, но достаточно скоро, я возведу обратно свои крепостные стены и защитный купол над головой — точь-в-точь как делала это всю жизнь — и спрячу, запру в ящик ответ на вопрос, который мучил меня так долго, хотя именно этот ответ снес на время и крышу, и стены. Я стану жить как жила, не важно — со столом или без стола. Понимаете, ваша честь? Вы понимаете, что мой поезд ушел, что для меня все поздно, слишком поздно? Думаете, я могла бы стать другим человеком? Кем? Как?