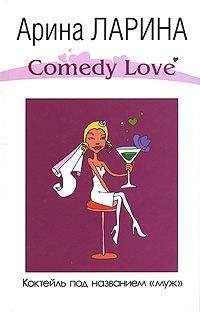Михаил Попов - Ларочка
— Да черт с ним.
— Он ведь старинный друг Аристарха, ему будет трудно… откажется, его и за неделю не уломать. А время же… И Галину Агеевну он знает. Свидетелем был на свадьбе.
Схема получалась отвратительная. Сергей Иванович осторожно погладил Лару по плечу.
— Да, брось ты это. Что за гонка, не последние выборы, будут еще…
— Я для него как красная тряпка, для Пажитнюка?
— Вроде того.
— Убираем красную тряпку. Без баб!
— Что?
— Первым пойдет Михаил Михайлович.
— Какой? Ах, этот?
— Да. Он формально у нас почпред, по документам проведен. Пажитнюк его знает?
— Черт его знает.
— Так вот вы и позвоните. Меня мол, отодвинули, наказали, с кашей съели.
Сергей Иванович набычился, слишком много крутых виражей за последние деньки, ему не нравился такой несолидный стиль.
— Ладно, доеду, обмозгую.
— Нет, нет, вот у вас тут телефончик стоит, снимайте трубочку, снимайте. Ну, что вы, Сергей Иванович, один разговор, последний. Остальное я сама.
Когда она входила в квартиру Бабича, то даже что–то напевала, что–то чардашное, частичка черта в нас живет в суровый час. Открыл дверь Никита Семенович, отец Бабича, директор мясокомбината. Ларису он обожал, и хотя все знал об отношениях своего сына с «царицей», как он ее называл, при всякой встрече полушутливо предлагал ей бросить этого «мозгляка» и «махнуть в Дагомыс».
— О, мой колбасный король! — На автомате пела Лариса, давая возможность мусолить левую руку толстым губам директора, а сама параллельно командовала своему помощнику немедленный сбор–поход.
— Как уже?! И даже буженинки свеженькой с нами не разрежете?!
— Никита Семенович дело государственной важности! Бабич, иди лови машину.
— Но тогда, хотя бы сухим пайком. Вот, это подарочный комплект, называется «12 месяцев».
— Что за название? Бабич, я уже спускаюсь, соглашайся, сколько бы не просили!
Никита Семенович протянул ей квадратную, роскошно украшенную как бы конфетную коробку.
— Двенадцать палочек сухих колбас, вот в эту целофановую амбразурочку вы можете видеть этих красавиц. Посмотрите, их как будто сам Фаберже ваял.
— Спасибо, спасибо, сервелатный рыцарь мой.
— Умоляю, умоляю вас об одном, не переходите в вегетарианство, иначе моя жизнь потеряет всякий смысл.
— Обещаю. — Крикнула Лариса, ныряя в лифт.
24
— А где он?!
Секретарша пожала плечами.
— Пятница.
— Еще полтора часа до окончания рабочего дня. И как можно в такой день вообще уходить с рабочего места?!
Она рассчитывала увидеть здесь толпы возбужденного народу, в последний момент прорывающегося к окошку, чтобы всунуть туда свои бумажки. Она готовилась прорываться, протискиваться, подкупать, и скандалить, льстить и хамить. А тут — пустыня. Уборщица со старинным пылесосом идет куда–то вдаль по унылой ковровой дорожке.
— Да все уже закончилось, девушка. Все кому надо оформились. А у Антона Петровича, у Шамарина сегодня юбилей.
— Да, какой может быть… Юбилей? Где? Где он живет? Хотя, где он живет, я знаю.
Секретарша улыбнулась, и просто из чувства превосходства над этой недотепистой теткой, сообщила.
— Зачем дома, он отмечает во дворце «Магистраль». Только вам туда не пройти. По приглашению.
— У вас остались лишние? Обычно всегда остаются лишние.
Та, вдруг почувствовав, что позволила себе слишком много, резко замкнулась, опустила глаза.
— А где он хотя бы этот дворец, «Магистраль»? Вы что оглохли?!
Бабич осторожно потянул Ларису за локоть, шепча, что он знает куда ехать.
Помчались по Ярославке мимо ВДНХ, уже было почти темно, ноябрьские ранние сумерки. Лариса любила смотреть на знаменитую ракету с изогнутым выхлопом, и сейчас, когда они пролетали мимо освещенной прожекторами скульптуры, она почему–то подумала, что ее судьба чем–то напоминает эту ракету, и ее порыв и ее изогнутую струю.
К главному ходу, конечно, не пошли, рванули через служебный. Лариса держала наготове целую стопку различных корочек и удостоверений, пока было неясно, какие именно могут сыграть в данном месте.
Оказалось, никакие.
Никакой стиль не действовал, ни нахрап, ни втирание очков. При попытке повысить голос, ее вообще взяли под локоть. Бабича, попытавшегося вмешаться, тоже взяли и вывели аккуратно и равнодушно на мороз.
— Надо было цветы купить. — Сказал Бабич.
— Так, сейчас ты отвлечешь внимание.
— Как?
— Думай. Толкайся, кричи, что кошелек украли, изобрази сердечный приступ.
Бабич снова засопел. Ему не хотелось вступать в конфликт со здешними властями, но не откажешься же. Ларисе было плевать на его настроение. Она вообще не привыкла думать о нем пристально. Полная безотказность, вот в чем его ценность.
Двинулись опять к входу. Но ничего разыгрывать не пришлось.
— Дядя Ли! Вы как здесь!
Маленькая замотанная шарфом фигурка уже прошла в предбанник, Лариса увидела его через частично запотевшее стекло, и кинулась следом — «у него мои билеты».
Лион Иванович был ошарашен встречей, и еще больше тем требованием, что было на него тут же обрушено. Он неловко представил Ларисе молоденькую, и малопривлекательную девушку — «Наташа», давая понять, что пришел с дамой, дабы ее как–то развлечь. «Мы Антоном соседи».
— Я это знаю. — Звенящим шепотом заявила Лариса, и потребовала у него пригласительный.
— То есть?! — сухое лицо конферансье чуть исказилось. Их со всех сторон толкали втягивающиеся в вестибюль гости.
— Давай, давай, дело жизни и смерти. — Проявляя чудеса лаконизма, она сумела в трех словах втолковать старику, насколько ей важнее оказаться в зале, чем ему. У нее реальная политика, а у него всего лишь развлекаловка.
Лион Иванович искал причины для отказа.
— Антоша обидится.
— Да он и не заметит, что тебя нет.
— А как же Наташа?
— Она, если хочет, может пойти со мной.
Наташа явно не хотела, она тоже уже поняла, что с пригласительным придется расстаться.
— А вы попьете пива с Бабичем. Вон он за стеклом.
Бабич не подвел, оказался там, куда показал палец Ларисы.
— Мне нельзя пива, печень. — Сослался на здоровье ветеран сцены, хотя оскорблен был морально.
— Пойдемте в кино? — Прошептала ему на ухо некрасивая Наташа. Лариса прочла по губам как спецагент.
— Гениально! Вы умница. Давай мне оба пригласительных. Бабич мне еще может понадобиться.
Лион Иванович, раздувая бледные нервные ноздри, полез во внутренний карман пиджака. Ему было неприятно, что его так бесцеремонно… но совершенно не представлял, что тут можно сделать.
Лариса протянула руку к букету гвоздик, которые приобрел не слишком щедрый конферансье для своей спутницы.
— В кино вам они не понадобятся. — Улыбнулась она на все готовой Наташе.
Места были неудобные, отдаленные, под нависшей тушей балкона. Можно было понять, что господин Шамарин не слишком–то ценил свои соседские связи с усыхающим конферансье.
Сцена была оформлена обычным юбилейным набором: увеличенный, и решительно заретушированный портрет, так что Шамарин смотрелся просто Аленом Делоном. Неужели пластика, подумалось Ларисе, или чудовище с возрастом похорошело. Так же имелся в левой стороне сцены небольшой диванчик и журнальный столик с вазой набитой фруктами. Диванчик предполагал двоих седоков. Во–первых, конечно, виновник торжества, во–вторых — молодая, элегантная дама с великолепно поставленным голосом, хозяйка вечера.
Как только Шамарин появился на сцене под нарастающий гром аплодисментов, Лариса поняла, что фотография на сцене — ложь. Все прежние бородавки юбиляра были на месте. Во всех прочих отношениях шестидесятилетний мужчина смотрелся великолепно: умеренное пузцо, кривоватые ноги, все это скрадывалось отличным французским костюмом. Он улыбался и кланялся, делая вид, что раз всем, кто явился.
Ты еще не знаешь, что тебя ждет, билась у Ларисы в голове хищная мысль.
Впрочем, она и сама еще не знала, чего опасаться бородавочнику во французском костюме.
Надо было осмотреться.
Сюжет мероприятия был прост. Один за другим на сцену из кулисы противоположной столику, появлялись известные, и не очень люди с огромными букетами и коробками. Предварительно объявленные бежевой красавицей, они бормотали в микрофон, кто громче, кто тише приличествующие случаю глупости, и освобождали место для новых говорунов.
Кое–кто пел. Русскую народную «Степь широкая», Лариса никогда бы не подумала, что это любимое произведение Шамарина, как было объявлено.
Читали стихи, любительские, слепленные на случай, и профессиональные, которые были почему–то отвратительнее самодеятельных.