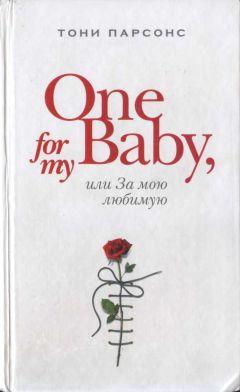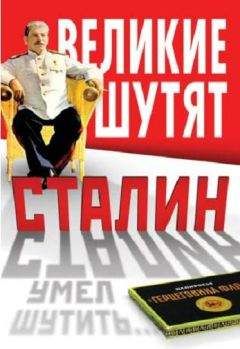Жан д'Ормессон - Бал на похоронах
— Вы едете? — спросил меня Андре.
Казотт и Далла Порта тоже ждали.
И мы вчетвером направились к моей машине, ожидавшей в нескольких шагах от ворот. Это был старенький «мерседес»: ему было более двадцати лет, он побывал на всех дорогах Европы и дальше — в Турции, Афганистане, Индии. Ромен раньше часто устраивался на его сидениях; сейчас они стали уже совсем потертыми. Мы, все четверо, шли медленно, с каким-то смутным чувством неловкости и вины, вероятно, за то, что вот он умер, а мы живы… И целый рой воспоминаний тянулся за нами шлейфом…
Наш прекрасный мир — это приключение, в котором абсурдное и возвышенное постоянно спорят друг с другом. Всякий раз, когда мы делаем упор на его абсурдность, он отвечает красотой. И каждый раз, когда мы настаиваем на веселье и радости в нем (как это делал Ромен), — он отвечает страданием и смертью.
— Хотите — я поведу машину? — спросил Андре.
— Да, пожалуйста, — ответил я ему.
Я чувствовал себя уставшим.
Казотт и Далла Порта устроились на задних сидениях. Усевшись рядом с Андре Щвейцером, я вставил кассету в магнитолу. Это была кантата Баха, опус 147 — «Сердце, уста, деяния и жизнь».
— Бог… — начал было Швейцер…
— Да, — прервал я, — мы все знаем: в этом названии баховской кантаты — «перечень долгов Всемогущего художнику»… Ромена это очень забавляло…
Мы ехали в Париж по дороге, идущей через предместье.
— Я спрашиваю себя, — говорил Андре, — видит ли и слышит ли он нас сейчас?
— Вот этот вопрос, — сказал Далла Порта, — он бы никогда не задал.
— Я знаю, — возразил Андре, — но он напрашивается сам собой.
Мы слушали мелодии Баха, такие прекрасные, умиротворяющие, возвышающие душу, похожие одна на другую своей умной простотой — и потому так легко узнаваемые. Я хотел, чтобы они звучали у могилы Ромена… Сейчас, когда я уже не был связан его запретом, я мысленно посвящал ему эту музыку, это разрывающее душу счастье…
Целые комья любви образовывались везде: в горле, в сердце, в воздухе парков, в просветах между домами… И все было покрыто тайной…
— Вы должны, — говорил сзади Казотт, положив мне руку на плечо, — написать что-нибудь о нашем друге…
Минуту я молчал: я вспоминал тот наш с ним разговор в виду Форума и то, что он думал о книгах.
— Я не уверен, — заговорил я, — что это ему бы понравилось. Он не любил книг: он считал, что их развелось слишком много.
— И он не был неправ, — сказал Далла Порта.
— Ле Кименек как-то рассказывал мне, что на его адрес приходит пять-шесть книг каждый день. И чуть ли не по два десятка ежедневно в «горячее время», то есть весной и особенно осенью, когда они валятся на него ворохом, как осенние листья с деревьев. Он провел интересные наблюдения за тем, как они упакованы. Он утверждает, что самые плохие всегда упакованы лучше всех в специальную клеящую бумагу и их труднее всего извлечь из этой упаковки. В конце концов он их возненавидел и стал вывозить целыми тачками. Нужно ли впутывать Ромена в эту круговерть вопреки его желанию?
— Да, — сказал Андре, — он предпочитал молчание.
И мы замолчали все четверо. Это правда: он не любил шума, криков, слов. Он терпеть не мог всяких глоссариев и комментариев, столь характерных для нашего времени. Он чаще молчал.
— Теперь он замолчал навсегда, — сказал Казотт. — Я полагаю, что ангелы не болтливы.
— Менее, чем мы, — в любом случае.
— Боже мой! Да там царит тишина.
— Возможно, музыка? — сказал Андре. — Музыка ангелов. Музыка сфер. Великий концерт миров. Он любил музыку.
— А не существует ли что-нибудь такое, вроде гула Вселенной? — спросил я.
— Конечно, — ответил Далла Порта, — это изначальный гул, идущий еще со времен «большого взрыва». Вселенная — это звучащее зрелище.
— Вопрос не столько в том, — сказал Андре Швейцер, — чтобы знать точно, бессмертна ли наша душа и продолжает ли она жить после смерти как личность. Что мы живем в посмертии так, как мы жили при жизни, — это маловероятно. Вопрос в другом: существует ли она — эта тайна Вселенной — и не существуем ли мы для того, чтобы ее познать.
— А разве есть какая-то тайна? — спросил я.
— Да, конечно, тайна есть, — ответил Далла Порта. — Есть целый ворох тайн. Наука сплошь состоит из загадок, которые мы бесконечно разгадываем одну за другой.
— Я говорю об одной тайне — единственной, — которая заключает в себе все остальные, — уточнил я.
Далла Порта запнулся в нерешительности.
— Ньютон так считал. И Лаплас. И Эйнштейн. Все гении науки верили, что мир устроен очень просто. Очень сложно и очень просто. Что мир построен очень изящно и являет собой образец гармонии. Что он не развивается неизвестно куда и неизвестно как и что Бог, выражаясь кратко и понятно всем, не играл в «орла и решку», создавая его. Эйнштейн, в конце своей жизни, отчаянно искал эту единственную формулу, которая объединила бы в себе квантовую теорию Планка, Гейзенберга, Бора и его собственную теорию относительности. Объединение всех областей науки стало у него навязчивой идеей.
— Единственную формулу?
— Да, единственную формулу.
— Но в вашем представлении, насколько я понимаю, — сказал Казотт, — раскрытие тайны Вселенной — в противоположность тому, что думает об этом Андре Швейцер, — это дело не мертвых, а живых.
Некоторое время в нашей машине слышалась лишь кантата 147, словно ответ на все наши вопросы, даже еще незаданные.
— Вот в этом-то и суть, — проговорил я. — Кто может разгадать эту тайну, живые или мертвые?
— Это вопрос почти абсурдный, — сказал Далла Порта, — потому что ответ на него слишком очевиден. Живые существуют, мертвые не существуют.
— А вот в этом уверенности нет, — возразил Андре.
…Музыка Баха. Солнце светит вовсю в прояснившемся небе. Мы в потоке машин. Вот и перекресток.
— Здесь мне повернуть направо? — спросил Швейцер.
— Нет, — ответил Казотт, — сначала налево, это короче, а потом — направо.
— Не кажется ли вам, — вернулся к разговору Швейцер, — что Ромен сейчас, так или иначе, знает больше, чем живые?..
— Ромена больше нет, — отрезал Далла Порта.
— Может быть, он просто в другом состоянии?
— В другом состоянии? Да, конечно, он обратился в прах. Кстати, он сам именно так и думал. Вы же знаете: он ни на мгновение не допускал мысли, что от него что-нибудь останется. Он был убежден, что исчезнет полностью и навсегда.
— А живые, — спросил Казотт, — вы верите, что живые когда-нибудь раскроют эту тайну?
— Да, верю, — ответил Далла Порта.
Мы опять замолчали. Наша машина казалась ковчегом, в котором мы спасались от окружавшего нас мира.
— Вполне возможно, — ответил я ему. — И даже желательно. Но мы, люди, такие хитроумные, ученые, уверенные в себе, этакие хозяева жизни, не исчезнем ли мы когда-нибудь все до одного, как в свое время исчезли динозавры?
— Несомненно, — ответил Далла Порта. — Человечество не вечно. Оно исчезнет, как и все остальное. Это, как говорится, написано у него на лбу.
— Но тогда, — спросил я, — что будет со вселенской тайной, если она принадлежит только живым? Когда не будет Солнца, когда Земля умрет, когда исчезнут люди, кто будет знать эту тайну?
Мы въехали в пригород. Поток машин стал еще более плотным. Повсюду было много людей, общественного транспорта; вот и рекламные щиты на перекрестках, афиши на стенах — карусель современной жизни.
— Может быть, компьютер? — предположил Казотт.
— Никогда не поверю, — сказал Андре Швейцер, — что ключ к тайне Вселенной может принадлежать компьютеру.
— Ба! — возразил Далла Порта. — Ключи иногда теряются. И тайны тоже исчезают. Мы узнаем все о Вселенной и пойдем на дно вместе с ней.
Здесь я не удержался и процитировал:
В порту мы, от бурь и штормов отдыхая,
О море житейских тревог рассуждаем…
— Чьи это стихи? — спросил у меня Казотт.
— Не знаю, — ответил я. — Это Ромен мне их читал:
…Оливки — в давильне, а в бочке — вино,
Ребенок, смеясь, нам вино наливает —
Вербеной и мятой пропахло оно,
Судьбы милосердием нас омывает.
В порту мы, от бурь и штормов отдыхая,
О море житейских тревог рассуждаем…[20]
— А когда вся Вселенная исчезнет и станет только воспоминанием, кто будет вспоминать о Вселенной?
— Конец Вселенной — это отдаленная гипотеза, — сказал Далла Порта.
— Гипотеза? — переспросил я.
— Уверенность, если вам угодно, — но далекая. Очень далекая.
— Но бесконечное расширение и охлаждение «Большого взрыва» или, наоборот, его обратное движение и завершение огненным «Большим крахом» — это все-таки когда-то произойдет?