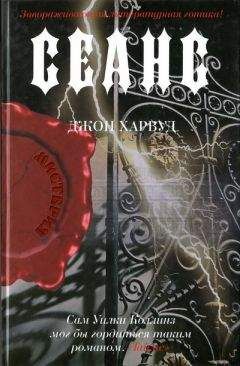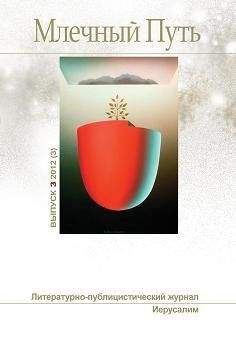Вержилио Феррейра - Явление. И вот уже тень…
Добравшись до конца улицы, съезжаю по склону, поворачиваю направо, здесь мой дом. Он стоит за высокой стеной с чугунными воротами. Затем надо подняться по каменной лестнице. Это старый дом, дата постройки высечена около двери в назидание будущему. Сейчас будущее — это я. Три женщины в черном стоят на ступеньках одна над другой, прислонившись к стене. Говорю им:
— Добрый вечер.
Ни слова в ответ, продолжают молитву. Дверь открыта, и вдоль коридора, по обеим его сторонам, тоже стоят женщины в трауре, тоже молятся. Молятся вслух, повинуясь кому-то, кто там, в глубине.
— Это ты, Жулио? — спрашивает меня мать из гостиной в конце коридора.
— Да, это я, — говорю в ответ.
Ставлю чемодан в прихожей, прохожу между молящимися женщинами. В гостиной тоже женщины, пристроились на полу. Четыре большие свечи горят, а посередине, на скамье, гроб; крышка поднята, в гробу моя мать. Она безмятежна, не тронута тлением, но жизнь иссякла до капли. Мгновение смотрю на нее, поправляю мантилью, немного сползла. Смотрю снова — теперь хорошо.
— Почему ты приехал только сейчас? — спрашивает она.
— Я выехал, как только получил телеграмму.
— И приехал один. Эмилинья не приехала. И жена твоя тоже.
— Эмилинья, — говорю я в телефонную трубку, — твоя бабушка при смерти.
— Не говори мне, что у меня была бабушка. Разве еще существуют бабушки?
— Она при смерти. Я подумал, что должен тебе сказать.
— Вот и сказал.
— Я приехал один, — сказал я матери. — Они обе не смогли.
— А когда ты вернешься? — спросила она.
— Никогда.
Я сказал это вслух? Женщины вздрагивают в своих гнездах из тьмы, подымают медленно бледные лики. Никогда. Звонят погребальные колокола, звонят у меня в душе, вознося голоса свои к ночи, надвигающейся на мир. Я медлю возле гроба, жду, что мать скажет еще хоть слово. Но она молчит. И тогда одна из женщин снова заводит молитву. Молитва растекается по коридору до самой улицы, приводя в действие механизм, заставляющий молиться всех других женщин. Я выхожу, потому что я атеист. Но едва я оказался в коридоре:
— Жулио!
Отец зовет меня из соседней комнаты. Это столовая, в промежутках между трапезами она служит гостиной. Там в кресле-качалке мой отец, он порядком отяжелел, не столько из-за тучности, хоть он не из худых, сколько из-за того, что ему трудно двигаться; мой отец. У него плохо с дыханием, врач уже установил причину — нарушение работы сердца, от этого он и умер восемь лет назад. Я сажусь рядом с ним, поговорим, как мужчина с мужчиной. На полке буфета лежат рядами персики, сильный запах — запах домашнего уюта, вековой надежности дома. За окнами с поднимающимися рамами — мрак сада. На мгновение перевожу взгляд туда; тревожное предощущение чего-то неясного, словно присутствие чего-то, что умерло. В глубине в смутном пятне света — стена, скамьи под яблонями. Мы сиживали там в летние сумерки, прислушиваясь к протекающей внизу реке и растворяясь в небытии ее журчанья. Медленно опускается ночь, ветерок восстанавливает дыханье земли, вот-вот выйдет луна, дабы тайна стала доступна взору. Сквозь оконное стекло — туда, посижу там немного, в многоголосом молчании сущего, в непредвиденной реальности того, что лишено смысла, в покое небытия. И при этом я чуть было не забыл про отца, неподвижного в своем кресле-качалке, но я так утомлен. Достаю сигареты, протягиваю ему, он поднимает ладонь в воздух, отказываясь. В отчуждении, в безмолвии мы ведем долгую беседу о бренности жизни и всего того, что мы придумали в ней — и мыслей, и надежности, и утреннего безмятежного солнца, и цветов в саду в ту пору, когда цветут цветы, и всего, что было таким маленьким, а теперь, в воспоминании, такое большое; а в это время неспешная ночь под укачивающие молитвы женщин в коридоре опускается на мир, захлестывает нас, словно вода — утопленника. И наши голоса во мраке, и сколько всего пытается обрести реальность с их помощью, но словно во мгле; обрести реальность собственной пустоты. Мы говорим о брате и сестре, они оба далеко, брат — сам не знаю где, сестра — в Бразилии, на похороны они не приехали. Говорим о лавке, мать уступила ее другому владельцу, о землях, она сдала их в аренду — кто арендовал? Она уступила почти даром, чтобы земля по крайней мере не позабыла о том, что ее долг — производить; и еще говорим о дороговизне жизни, эта тема всегда годится, когда нужно излить жалобы; и еще говорим о… Затем мы оба умолкаем. Нам хорошо здесь. По крайней мере, мне хорошо, как никогда, просто оттого, что я здесь. Встаю, иду к себе в комнату разобрать вещи, прохожу по коридору, заполненному черной мглой молитв. Вхожу в комнату, там моя кузина Лусинда, зачерствелая добродетель сорокалетней давности. Обливаясь отчаянными слезами, бросается мне в объятия, и меня внезапно охватывает волнение. Но мое волнение приводит в действие какие-то механизмы ниже пояса, а я думать не думал, что они функционируют. Она прижималась мокрой щекой к моей щеке, и тело ее содрогалось от плача. Мое тоже, хотя и не от плача. Затем вполне естественно содрогания приняли другой характер, причиной тому — скорбь и отчаяние, другого объяснения быть не может. После этого мы немного успокоились. Она еще поплакала, выплакала остатки предыдущих слез. Я закурил сигарету. А может, ничего такого не было, и сигареты я не закуривал, и Лусинда не приходила, а просто я остался наедине с ночью.
На следующий день были похороны. Но я не пошел. Сегодня не пошел. Но, может, еще вернусь туда и пойду.
XВдруг я ощутил, как гнетет меня безлюдность квартиры, и вечерняя духота тоже, она действует на меня угнетающе, а музыка звучит с начала, но как будто в первый раз — о, господи. Если бы я мог погрустить над тайной, скрытой во мне, сам не знаю, где именно. Она шевелится где-то внутри, живое волоконце, чем-то похожее на солнечный луч. Он прочерчивает наискось книжные полки, подбирается к политикам, зажигает взгляд моей жены. И тоска становится глубже, все попытки придать смысл существованию мгновенно распадаются в прах. Тогда я встаю, хотя сижу, как сидел, все происходит в воображении. Или в памяти. Вещи доведены до чистоты своей истинной сути. Обхожу всю квартиру, вся мебель мирно стоит на своем месте, диваны, картины в гостиной, ваза рубинового стекла, кажется, из Мурано[34], отдернутые шторы, пропускающие свет — достояние общественное — в наши сугубо личные владения, и все это ждет одного — своей всегдашней будничности. Затем вхожу в комнату дочери. Останавливаюсь у двери, сегодня день ее свадьбы. Церемония завершилась, мы пошли отпраздновать ее в английскую кондитерскую. Я вернулся домой один, Элена задержалась в городе. Открыл двери — в квартире тишина, ощутимое присутствие смерти — не такое, как от вида сломанных, искореженных предметов, тогда присутствие смерти естественно, она следствие некой мировой катастрофы, — но такое, как бывает, когда все предметы живут своей жизнью, стоят на своем месте, но напоминают о том, кто никогда больше не вернется. Останавливаюсь у двери, смотрю. В то время как музыка ведет рассказ о моей боли, а сумерки опускают свой купол на пустоту. Густой поток машин на проспекте — словно в панике. Я совсем один. Комната узенькая, тахта в углу, на стенах афиши, на этажерке, как всегда, книги. На другой этажерке, подвесной, несколько игрушек, среди них, словно талисман, — огромная кукла. И сразу ком в горле. Сажусь на тахту, глаза заволокло нежностью, все кончено, это очевидно. И сразу во мне иссяк запас жизни. Что мне делать? Зажигаю сигарету, поднимаю бокал виски. Может, снова принять душ? Тревога отхлынет под напором холодной воды. Не голос ли смерти звучит, прислушайся — что тебе делать? Элена не идет, медленно обвожу взглядом комнату; я в комнате у дочери. И такое ощущение, будто здесь сама Милинья со своим радостным презрением к жизни, которой нет конца. Сижу на тахте. Перебираю воспоминания, мы с ней давно уже ничего не знаем друг о друге. Когда-то я вел ее за руку, она высвободилась и убежала вперед. Но здесь у нее было жилье, она всегда сюда возвращалась, даже если приходила только утром. Я знал, что она здесь, и любил ее на расстоянии, хотя на этом расстоянии мы уже не слышали голосов друг друга. Как-то ночью я услышал, что Элена ворочается в постели, а у нее сон был нерушимый, в гармонии с совершенством ее тела; что с тобой?
— Спи, — сказала она мне.
Она там, на портрете, взгляд лучится радостью моря, но ты так постарела, что с тобой?
— Постарайся уснуть.
— Тебе нездоровится?
— Нет. Мне не спится, а ты спи, уже поздно.
Хлопнула меня ладонью по ноге — успокойся. Только на следующий день я узнал, в чем дело. Сижу на диване, на этом же самом. Элена рядом, в руках вязанье. Но я видел, что руки и мысли заняты у нее разным. А что, если спросить: «Ты озабочена, в чем дело?» — но не спросил. Элена всегда была высокомерна, ответить мне — значило уступить. Нужно было выждать, пока она сама не вытерпит, или двинуться в том направлении, на котором у нее не было сторожевых постов. Шел дождь, и я сказал: