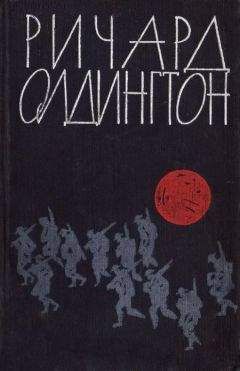Ричард Олдингтон - Дочь полковника
Джорджи ощущала все это с невыносимой остротой, и ей хотелось плакать. Словно жизнь и свет потихоньку покидали землю — потихоньку, но неумолимо, — и все беспомощно погружалось в тоскливую апатию зимнего мрака и смерти. Не будет больше ни солнца, ни ясного неба, ни цветов, ни нарядной зеленой листвы. Ей чудилось, что уже никогда не настанет новая весна, что дождь, холод, туман и унылый сумрак воцаряются навсегда. Апреля ждать так долго! А Джоффри уедет прежде, чем наступит апрель.
Они сели рядом на поваленном дереве. Джоффри, мигая, смотрел на затуманенное солнце — размытый золотистый мазок в серо-голубом небе. Джорджи чертила концом палки по размякшей глине тропинки. Она сказала:
— Как быстро пролетели последние недели!
— А верно! Но во время отпуска это всегда так.
— Вам будет… вам будет очень тяжело… когда надо будет вернуться… туда?
Джоффри потянулся и слегка зевнул, не открыв рта.
— В чем-то да, а в чем-то нет. Конечно, пожить в Англии — отличное дело, и просто замечательно, что ваши родители и вы так хорошо меня приняли. Время я провел потрясающе. Но мне нравятся тропики и тамошняя жизнь. Взять бы с собой туда то, что мне больше всего нравится в Англии, и я был бы совсем счастлив.
Слова «взять с собой то, что мне больше всего нравится в Англии» заставили Джорджи внутренне затрепетать, хотя и были туманны. Она подняла на него глаза, но он сосредоточенно смотрел на воду, закручивающуюся у стеблей камыша, а про нее словно бы забыл. Она сказала:
— Но что вам в Англии нравится больше всего?
— Ну вы знаете. Приятная жизнь, и люди, и автомобили, и все такое прочее. Там, например, автомобиль ни к чему: дорог мало, и те скверные. А люди распускаются. Если бы из Англии все время не приезжали новые, так, честное слово, мне иногда кажется, что старожилы обленились бы на манер туземцев и ничего не делали бы. Трудно объяснить, а здесь это вообще выгладит нелепо, но есть в тропиках что-то, что расслабляет человека. Они уже словно и не англичане вовсе, понимаете, что я имею в виду? Утрачивают нравственную твердость, и им уже все равно, зарабатывают они деньги или нет.
— Да-а, — произнесла Джорджи. Он заговорил не совсем о том, чего она ждала, на что надеялась. Умолкнув, она провела палкой глубокую борозду в грязи.
— Вы ведь уедете еще до весны, — сказала она наконец.
— Ага. В конце февраля или в начале марта.
— Нам вас будет очень не хватать.
— Спасибо. Мне, конечно, очень приятно, что вы это говорите.
— Мне вас будет очень-очень не хватать.
— Правда? Большое спасибо, что вы так сказали. Послушайте, если бы вы позволили… ну… Я уже давно хочу задать вам один вопрос, но все боялся.
Сердце Джорджи взлетело вверх и словно рухнуло, точно автомобиль, подпрыгнувший на переломе дороги. Неужели? Наконец-то!
— Глупенький! — Она засмеялась. — Так что же это такое страшное, о чем вы хотите меня спросить?
— Ну-у… — протянул Джоффри виновато. — Боюсь, вы сочтете меня чересчур самонадеянным и все такое прочее, но мне жутко хочется, чтобы вы дали мне одно обещание.
Сама того не сознавая, Джорджи прижала руку к груди — у нее перехватило дыхание. Нос истым стоицизмом дочери полковника она ничем себя не выдала и сказала самым спокойным и обычным голосом:
— Разумеется, я буду рада сделать все, что в моих силах.
— Это жутко мило с вашей стороны. По правде говоря, я все думал, какое это было бы одолжение, если бы вы мне писали — раз в месяц или около того и рассказывали бы мне, чем дышат в Англии. Там, вы знаете, чувствуешь себя совсем отрезанным от мира.
Джорджи засмеялась. Смех получился жалобный, но очень мужественный.
— Разумеется, я буду писать.
Они вновь смолкли.
И вдруг Джоффри сказал:
— Знаете что!
— А?
— По-моему, вы преотличная девушка и любой другой дадите два очка вперед.
— Я ужасно рада.
— Я еще ни одной не встречал, которая мне так бы нравилась.
— Неужели? И даже девушка, с которой вы были помолвлены во время войны?
— Она? Это давно кончено. И вы совсем другая.
— Как так — другая?
— Ну-у, не знаю… Свойская и все такое прочее. Ну знаете, такая девушка, которой можно доверять.
— А!
Джоффри взял ее руку и зажал в своих ладонях. Оба смотрели на закручивающуюся воду, мутную, но подернутую золотом заходящего солнца. Они были донельзя смущены.
— Послушайте, — прервал молчание Джоффри.
— Что?
— Можно я вас поцелую?
— Зачем?
— Ну-у… не знаю. Просто… можно, а?
Джорджи повернулась и поглядела на него. Ей вспомнилась заключительная надпись одного из фильмов, которые они смотрели вместе: «Ее глаза были звезды, сияющие обещанием». И тут же — крупный план заключительного поцелуя.
Джоффри довольно неуклюже обнял ее и поцеловал. Джорджи зажмурила глаза и одной рукой вцепилась в твидовый лацкан его пиджака, как умирающий грешник — в крест. Затем Джоффри сказал без особого волнения:
— Не пора ли нам вернуться? Не то вы простудитесь.
— Да, — ответила Джорджи срывающимся голосом. Она встала и с изумлением обнаружила, что у нее подкашиваются ноги и вся она точно тает.
Домой они шли, держась за руки, и почти все время молчали.
Вечером, когда они танцевали под наблюдением полковника и кузена, патефон внезапно замедлил вращение диска, скорбно постанывая. Джоффри кинулся к нему и начал крутить ручку.
— Знаете, — сказал он раздраженно, — это ведь жуткое занудство: все время останавливаться и подзаводить его. Жалко, что у нас совсем нет знакомых. Соберись мы компанией, и танцевать было бы веселее, а кто-нибудь стоял бы у машинки и все время ее подкручивал.
— Марджи вернулась, — заметила Джорджи. — И, по-моему, не одна. Она меня просила, чтобы я как-нибудь привела вас к ней. Может быть, заглянем туда завтра и позовем их всех к нам на вечер?
— Преотлично, — ответил Джоффри, опуская иглу на пластинку.
3
Светские таланты Маржди Стюарт отличались определенным своеобразием. Ей нравилось заполучать на свои субботние спектакли пару-другую звезд. Однако наблюдательностью она не блистала, и частенько приглашенные полузнаменитости друг друга совершенно не выносили. Их она окружала разношерстной компанией молодых людей и девиц, приглашенных в последнюю минуту по телефону более или менее случайно и по большей части сочетавшихся между собой так плохо, что взаимное жгучее омерзение звезды заодно распространяли и на хор. А затем Марджи горько сетовала, как люди не умеют ценить того, что для них делают, и удивлялась, почему полузнаменитости редко принимали второе ее приглашение. Какая-то темная загадка! Порой она даже начинала подозревать, что более искушенные и давно утвердившиеся охотницы за знаменитостями стакнулись между собой и ведут против нее черные интриги.
Марджи уже успела испробовать спорт, аристократию, адвокатуру и сцену. Но ее королевские адвокаты никогда не занимали сколько-нибудь видного места на газетных страницах, а их младшие коллеги принадлежали к бережливому типу и до Криктона ехали третьим классом, а там пересаживались в вагон первого класса, чтобы выйти из него на следующей станции, где их ждал автомобиль. В сценический период ее гостиная напоминала общую гримерную непризнанных талантов или, точнее, приемную театрального агента, полную нетерпеливых искателей ангажемента. Ей не хватало грубости и пристрастия к алкоголю, чтобы преуспеть с эфебами Спортландии, а голубая аристократия не желала иметь с ней ничего общего. Лучшее, что ей удалось раздобыть, была вдовствующая титулованная дама из Нортумбрии и промотавшийся ирландский граф, чей дом сожгли шинфейнеры. Но ничего хорошего из этого не вышло: вдовствующая дама повернулась к графу спиной, ибо он в свое время был замешан в бракоразводном процессе и выступал свидетелем против ее родной племянницы.
Пока мистер Перфлит, бежав от Цитеры, пребывал в лондонском изгнании, он заманил Марджи в мир искусств. Мистер Перфлит с полной откровенностью признался, что в Англии занятие искусством никогда доступа в свет не открывало — во всяком случае, до тех пор, пока старческий маразм не обезвреживал художника и не делал его абсолютно неинтересным. Но, прибавил он, взобраться по черной лестнице знаменитости — штука тоже недурная: ведь заметную часть светских газетных сплетен поставляли, а то и писали, эти же самые художники. Перфлит не ввел Марджи в круг интеллектуальных англокатоликов, о которых он столь восхитительно поведал Макколу. Это удовольствие он приберегал для себя — маленькое развлечение в зимние месяцы. И вообще они были слишком серьезны и образованны, чтобы терпеть Марджи, а кроме того, всегда делали вид, будто приходят в бешеную ярость, если их фамилии мелькали на столбцах «светской хроники», чего вожделела Марджи. Подобно Джорджи, по несколько иному поводу, они воспринимали это как унижение.