Ричард Олдингтон - Ловушка
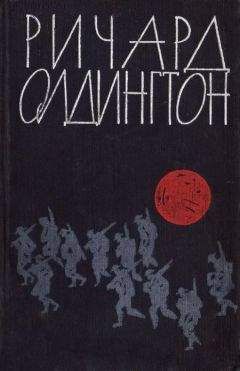
Обзор книги Ричард Олдингтон - Ловушка
Ричард Олдингтон
Ловушка
Леонард Краули быстро шел по Пикадилли, направляясь в свой клуб, и настроение у него было превосходное; он даже спрашивал себя, откуда это берутся люди, недовольные жизнью. Такой оптимизм, которому мог бы позавидовать сам Панглосс,[1] объяснялся не только тем, что новый костюм сидел на нем безупречно, а июньское утро было мягким и теплым, но и тем, что жизнь вообще была к Краули в высшей степени благосклонна.
Его размышления были неожиданно прерваны – чья-то рука опустилась ему на плечо, и голос, показавшийся ему незнакомым, произнес:
– Привет, Краули! Куда это ты так бодро шагаешь?
Краули остановился и удивленно посмотрел на встречного. Перед ним стоял, опираясь на палку, худой, пожалуй даже изможденный человек в потрепанной форме армейского капитана. На левой руке у него синела госпитальная повязка.
– А, Хэстингс, привет! Черт возьми, как ты изменился! Сразу и не узнать!
– В последний раз мы как будто встретились под Ипром, в шестнадцатом, – ты шел на перевязочный пункт,
– Верно. Как я рад тебя видеть! Пойдем со мной в клуб, выпьем.
Краули пришлось сбавить шаг, чтобы сильно хромавший Хэстингс мог за ним поспевать.
– Ну, а сейчас ты что поделываешь? – спросил Хэстингс, усаживаясь и выпрямляя обеими руками раненую ногу.
– Видишь ли, – с важностью сказал Краули, – я получил очень хорошее место в Сити у сэра Уильяма Чэндлера. Это крупный финансист, ты, конечно, слышал о нем. Я недавно обручился с его дочерью.
Не так уж плохо для человека, который ушел в армию Мелким банковским клерком; достойная награда за умение ловко использовать удобный случай!
– Клянусь богом, старина, тебе везет! Поздравляю, вдвойне поздравляю!
– А ты чем занимаешься?
– Пытаюсь найти работу. Пока еще я в отпуске после лечения, но за два месяца единственное, что мне предложили, – это временно работать клерком в Уайтхолле, три фунта десять шиллингов в неделю.
Краули поспешно переменил разговор. Покровительственным тоном он предложил Хэстингсу дорогую турецкую сигарету. С удивлением Краули увидел, что рука Хэстингса, держащая спичку, дрожит едва заметной, но беспрестанной дрожью. И вид у бедняги такой измученный, постаревший. Ему можно было дать все тридцать пять, если не больше, а ведь на самом деле бедняге, кажется, нет и двадцати четырех.
– Расскажи-ка, что там у нас было в батальоне, когда я ушел на перевязочный, и как тебя ранило.
– Мне повезло, даже слишком повезло. Не уцелей я тогда каким-то чудом, не был бы сейчас такой развалиной. Уж лучше совсем подохнуть, если сразу не отделаешься легкой раной да не уедешь домой.
– Ну, зачем ты так говоришь. Я…
– Подумаешь, дружище, какая важность! Тут вся Европа чуть не рухнула, как старый дом, что ж с того, если при этом один из бесчисленных кирпичиков треснул или раскололся? Для меня все кончено, но ведь и для других тоже, для сотен тысяч людей, куда более достойных, чем я. Надеюсь, пенсии по инвалидности мне хватит, чтобы кое-как дотянуть до отбоя. А жениться я уже никогда не смогу.
– Это еще почему?
– Я теперь навсегда такой, каким прикидывался мистер Хорнер, помнишь, у Уичерли?[2]
– Мистер Хорнер? У Уичерли?
– Ах да, я и забыл, ты ведь не любитель книг. Попросту говоря, ранение навеки превратило меня в евнуха.
– Боже милосердный! Мне ужасно…
– Да ладно, чего там. Так ты спрашивал про наш батальон. Подожди, дай припомнить. Нас после Ипра перебросили на Сомму – мы там здорово влипли. Потери были тяжелые. Там-то и погиб Рэймонд. Помнишь Рэймонда, он у нас ротой командовал?
– Рэймонда? Высокий такой, черный, немного шепелявил?
– Нет, это ты про Хокстона. Из третьей роты. Его убили под Аррасом. А Рэймонд был блондин, замечательный парень, один из лучших моих друзей. Ну да ладно, неважно. После Соммы несколько месяцев было сносно, только зимой стоял зверский холод – мы чуть все не перемерзли. Затем мы двинулись в Аррас – там у нас убили полковника.
– Эшли?
– Нет, Эшли командовал полком в Англии. Другого. Из Арраса отправили нас на север и на место мы прибыли как раз к тридцать первому июля. Под Пашенделем был такой кошмар – пожалуй, за всю войну я ничего страшнее не видел. В марте восемнадцатого года мы были в составе второй армии, в стороне от самого пекла, а потом – в четвертой, когда боши наступали под Кеммелем. Нам в тот год везло. Но, откровенно говоря, я здорово устал – больше двух лет на фронте, сам понимаешь.
– Еще бы, конечно. Я…
– Знаешь, под конец на войне все очень переменилось. Ты-то был тогда там?
– Нет, я… Я был начальником по строевой части в учебном батальоне.
– Так вот, с шестнадцатого по восемнадцатый год стало гораздо больше газов, танков и артиллерии. Но когда бошей погнали от линии Гинденбурга, началась такая бойня, что поначалу все мы просто растерялись.
– И тебя ни разу не ранило за все это время?
– Да нет, я бы этого не сказал, но ведь чуть-чуть не считается. Сам знаешь: продырявит пулей. рукав, осколком – вещевой мешок, шарахнет по каске – чуть не ранит, да мимо. Слабое отравление газом, легкая контузия от снаряда – но ничего серьезного.
– Значит, тебя ранило под конец?
– Да, в последнюю неделю войны.
– Вот невезенье! Как же это случилось?
– Нарвался на мину-ловушку.
– Что?
– Да, я и забыл – откуда тебе знать; боши их часто оставляли еще в семнадцатом, когда отступали с Соммы. А в восемнадцатом, когда немцев уже разбили, они все-таки ухитрились понатыкать массу этих самых ловушек. Подберет парень этакую невинную с виду каску или значок с номером полка и – трах! – рвется мина, все к чертям, а парень – в царствие небесное. Мерзкая штука. Некоторые ребята порядком волновались. И хуже всего были такие мины, которые невозможно заметить. Очень ловко придумано. Выберут какой-нибудь частный дом побольше или общественное здание, где потом обязательно разместят штаб или еще что-нибудь, и закладывают в стены либо в фундамент здоровенный заряд динамита. Присоединяют к нему детонатор, а ударник удерживает кусок проволоки, пропущенный через жестянку с кислотой. Постепенно кислота разъедает проволоку, рано или поздно она рвется, ударник. бьет по детонатору, и дом взлетает на воздух. Очень ловко придумано.
– В такую историю ты и влип?
– Да, только в доме-то меня не было. Я бы, конечно, там тоже торчал, и если б не мое проклятое любопытство, кончились бы тогда все неприятности. Дело было вот как. Ровно за неделю до перемирия захватили мы одну деревню, под названием Реанкур, недалеко от бельгийской границы. Мы там должны были простоять дня два. Я тогда служил в штабе батальона, был помощником начальника штаба. Полковник приказал разместить штаб в бывшей комендатуре бошей. Пришли саперы, облазили весь дом, и сказали, что все в порядке.
Пробыли мы там часа два, и вдруг, не знаю почему, стало мне как-то не по себе. Я говорю полковнику – пойду, мол, взгляну, как там с квартирами для солдат. А в деревне оставался еще кое-кто из французов, они к нам присматривались с любопытством и робостью. Похоже, оккупанты над ними так измывались, что они и на нас теперь глядели с опаской, а может, просто уже привыкли к немцам. Одним словом, я подумал, что, раз я говорю немного по-французски, не мешало бы мне наладить связь с населением; ну, пошел я по деревне, заговаривая с каждым встречным, – втолковывал им, понимаешь, что мы союзники и друзья, что они, дескать, освобождены и все прочее. У одного из домиков сидели две женщины и мужчина. Домик был почти на самом краю деревни, и если б меня не заинтересовал этот человек, я бы тут же повернул обратно и вернулся в штаб задолго до спектакля.
Француз, тот, что сидел с двумя женщинами, с виду был хоть куда, из тех, знаешь, высоченных, дюжих, чернобородых французов с этаким басом, каких сейчас и не встретишь – их всех поубивали. Я просто диву дался – такой парень в деревне, где и мужчин-то совсем не осталось, одни старики да мальчишки. А еще меня удивило, что лицо и руки у него были бледные, как воск. И такая это была нездоровая бледность, точь-в-точь как у ростков картошки, лежащей в погребе. Подошел я к этим людям и заговорил с ними. Женщины были до смерти перепуганы, и все поглядывали то на меня, то на француза. Я говорю: «Бонжур», и мужчина по-французски, конечно, спрашивает: «Мсье – английский офицер?» – «Да, мсье, я капитан английской армии, мы ведь ваши союзники».
Он повернулся к женщинам: «Вот видите! Я был прав! Мсье – англичанин, союзник, друг. Что я вам всегда говорил – вместе с англичанами мы им зададим, этим бошам!»
Тут я страшно смутился – женщины, понимаешь, кинулись целовать мне руки, я тихонько отстранил их и спросил у француза: «Но кто же вы такой?»
– Мой капитан, я капрал сто двадцать пятого линейного полка.
– Капрал 125-го полка! А что же вы здесь-то делаете?



