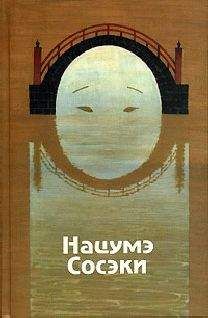Жан Жубер - Красные сабо
Роне был очень чувствителен, вдумчив, тонок, одержим еле сдерживаемыми страстями — словом, полная противоположность Ашилю Мушу, который, впрочем, за то и не любил его. С мечтательным видом он извлекал из своего портфеля книги, устраивался за деревянным некрашеным столом, служившим ему кафедрой, и больше уже не двигался; сидя за этим кухонным сооружением в непринужденной и одновременно изящной позе, со скрещенными ногами, как Малларме в своем кресле, он пространно толковал нам о поэзии, о музыке слов, о ритмике, образах, и его, казалось, ничуть не заботило безразличие части класса. Я думаю, он считал, что культуру палкой не вбивают. Что ж, тем хуже для этих варваров! Пусть идут в лавочники. Роне рассказывал то, что ему хотелось рассказать, и слушали его те, кто хотел или мог его слушать. Подобный педагогический принцип с ходу осудили бы в наши дни, но в общем я нахожу его ненавязчивым и разумным. Нас, его слушателей, было не то пятеро, не то шестеро, зато уж слушали мы как следует, и небольшая группа колеблющихся, смотря по времени года, теме урока и настроению, то примыкала к нам, то возвращалась в лагерь противников литературы.
В некоторые, по правде говоря довольно редкие, дни даже самые неподдающиеся ученики: бездельники, игроки в белот, специалисты по изготовлению волчков или метательных трубок — вдруг настораживались и начинали слушать, покоренные красотой какого-нибудь отрывка или комментария к нему. На несколько минут воцарялась непривычная тишина, которая, казалось, даже смущала самого Роне. Тогда наступали прекрасные мгновения полной гармонии, высокие минуты общения с Гюго, Шатобрианом, Нервалем, и, если кто-то все же осмеливался нарушить тишину, мы бурно протестовали, а Дэр, здоровенный верзила, в свои тринадцать лет ростом почти в метр восемьдесят, оборачивался и заявлял, что с людьми, которые не любят поэзию, он объяснится после уроков во дворе. Угроза немного смиряла смутьянов. Мы задавали Роне вопросы, он внимательно выслушивал их, потирая нос большим и указательным пальцами, потом отвечал серьезным, немного вялым тоном, листая книгу, читая нам тот или иной отрывок.
— И все, — заключал он, — а больше я вам ничего не скажу. Не рассчитывайте только на меня! Перечитайте эту страницу сами сегодня вечером, и завтра утром, и еще через несколько дней; постепенно вы проникнете в ее смысл, и каждый раз она будет представать перед вами в новом виде. И помните, читать нужно с большой любовью…
— С любо-о-вью? — насмехался кто-нибудь сзади.
— Заткнись, дурак! — кричал Дэр.
Раздавался звонок. Роне отряхивал рукава и поправлял галстук.
— Ну ладно, завтра продолжим.
Это для него я написал александрийским стихом длинную поэму «На смерть Тристана». Цикл романов о короле Артуре вдохновлял меня почти так же, как Нибелунги, и я, горя поэтической лихорадкой, накатал целых шесть рифмованных страниц. Смертельно раненный Тристан лежит на берегу бретонского моря. У него едва хватает сил приподняться, чтобы поискать взглядом на горизонте парус корабля, посланного им в Корнуэлл. Если корабль везет Изольду Белокурую, то парус будет белым, но он будет черным, если посланного постигла неудача. Охваченная ревностью, Изольда Чернокудрая кричит, что парус черный, и жизнь покидает Тристана. Прекрасная Изольда, прибывшая на корабле, умирает от горя возле тела того, кого она не переставала любить.
Все это чаровало и в то же время пугало меня. Я мучился загадкой жестокой силы любви, думал о роли, какую сыграл тут любовный напиток, что придавало всей этой трагедии оттенок нереальности. Не приведется ли и мне когда-нибудь страдать от такой же напасти? Мне чудился шум волн, набегавших на пляж, где я когда-то проводил каникулы, мне виделось смертное ложе на самой вершине маяка, и уж конечно я был влюблен в Белокурую, но так же сильно и в Чернокудрую.
Возвращая нам работы, Роне сказал, вначале не называя меня, что в одной тетрадке он нашел «замечательные стихи» и поздравляет их автора. На этот раз его внимательно выслушал весь класс, раздались одобрительные восклицания и даже восхищенный свист. Я с замирающим сердцем сидел, не поднимая головы. Тут он указал на меня, и свист возобновился, — в нем не было иронии, так как в то время даже самые отъявленные лентяи еще питали уважение к подобным вещам. Среди общего молчания Роне прочел отрывок из моего произведения, указал мне на несколько сомнительных цезур, на одну неточную рифму, но тут же добавил, что это все пустяки, и, глядя на меня с каким-то новым вниманием, протянул мне тетрадь, которую я принял у него дрожащей рукой.
Эти стихи я безвозвратно потерял, да оно, вероятно, и к лучшему, воображаю, какие неуклюже-добросовестные вирши я способен был накропать на эту великую тему, но в глазах товарищей я с этого дня стал поэтом. Чьи-то руки вырезали на парте мое имя в лавровом венке, среди лир, и я, сам того не сознавая, оказался вознесенным на некую высоту. Я был худ и бледен, кутал горло в шерстяные шарфы и находился в состоянии перманентной влюбленности в какую-нибудь девочку, мельком увиденную в тумане. И я начал писать в блокноте стихи, которые не показывал ни одной живой душе.
Нынче в некоторых кругах считается хорошим тоном оплевывать школу, заявляя, что она отупляет детей, вероятно, в наши дни действительно поэзии и живому воображению она мало что дает. Но я-то очень хорошо знаю, чем обязан учителям и книгам. Передо мной распахнулись двери в неведомые области, в которые мне доселе удавалось лишь мельком заглянуть, читая книги из дядиной библиотеки и учась в начальной школе, и я устремился туда с таким пылом, что моя мать даже порой беспокоилась.
— Да хватит тебе корпеть над уроками, — уговаривала она меня. — Пойди погуляй! Ты слишком много занимаешься!
— Подожди, мне некогда, надо кончить…
У меня было ощущение, что мне неслыханно повезло: я посещаю коллеж, открываю для себя мир, о котором мои предки, навечно прикованные к своему полю, к своей убогой лачуге, не имели ни малейшего понятия; было и еще одно, более прозаическое соображение: учение — единственный способ спастись от завода. Дело тут было вовсе не в социальной амбиции или страсти к обогащению — от этого я был хорошо застрахован, — нет, меня снедало более высокое стремление: избавить мой род от тяжкого груза прошлого.
Но в этом моем рискованном предприятии, помимо моей одержимости учебой, была и другая, мучительная сторона. История наводила на меня тоску, но я добивался хороших отметок, заучивая наизусть, как это и требовалось от нас, имена королей, министров, генералов, даты сражений и мирных договоров — чисто механическая работа памяти, никакой радости мне не доставлявшая, если не считать античной Греции, которая манила и завораживала меня как высшее воплощение еще неведомого мне Средиземноморья. И, напротив, в этот период войны, обрекшей нас на вынужденную оседлость, я с удовольствием «путешествовал» на уроках географии. Но все точные науки, исключая те, что зовутся естественными науками, были для меня темным лесом, даже если я и ухитрялся с помощью зубрежки подняться до сносных отметок. Все эти абстракции, которые отсутствие лабораторий делало еще более сухими, начисто испарились из моей памяти, оставив лишь тягостное ощущение безнадежности при попытке пробить непробиваемую стену. Да, признаюсь, в школе я выучил — и сохранил во всей свежести — лишь то, что было близко моей душе, моему сердцу.
Я поехал взглянуть на свой бывший коллеж, ныне заброшенный, с тех пор как на опушке леса построили здание нового лицея. За решеткой ограды ветер гонял по двору сухие листья. Окна смотрели на меня пустыми черными глазницами. Ворота заперты, да, по правде говоря, я на самом деле и не испытывал желания войти и обнаружить внутри уже четверть века как заброшенного здания суетливых ящериц, плесень, обрушившиеся балки и обвалившуюся штукатурку — все, что придало бы этому и прежде печальному месту совсем уж жалкий вид. Нет, лучше мысленно пробежать вновь по этим лестницам и коридорам, припоминая классы такими, какими они были тогда: класс Муша, класс Роне, класс английского, где Сижель читал нам поэму Теннисона «Энох Арден», «Рассказ старого моряка» и «Оду греческой урне», класс истории на первом этаже, темноватый, весь завешанный картами, и, наконец, класс философии, самый памятный, самый близкий, — к нему я питаю особую нежность, ибо именно здесь я встретился с Жюльеттой.
Вот она сидит у окна, мне виден ее профиль, длинные волосы стянуты лентой, и лицо ее, озаренное солнцем, проникающим в окно сквозь золотистую листву платана, предстает в каком-то нереальном освещении, как на тех картинах, где свет как будто весь сконцентрирован на одном-единственном персонаже. Она внимательно слушает, слегка покусывая колпачок своей ручки. Я краешком глаза наблюдаю за ней издали и не без волнения признаюсь себе, что она интересует меня, хотя меня и раздражают ее порой такие безапелляционные суждения, ее туфли на низком каблуке и носочки. Фалье превозносит разум и Спинозу. Его живые глаза блестят на худом лице, он чуть покусывает губу, как будто пережевывает слова, прежде чем произнести их. Мы все увлеченно вникали в эту новую для нас область, и я целый год мнил себя философом, до того самого дня, как обнаружил в Сорбонне начетчиков от философии, которые за несколько месяцев сумели внушить мне отвращение к предмету.