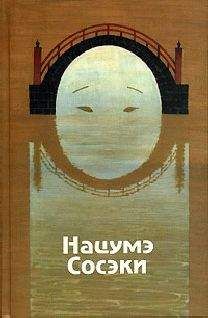Жан Жубер - Красные сабо
Поступив в коллеж, я почувствовал, что не так-то все просто. Здесь происхождение сразу бросалось в глаза: социальное положение угадывалось по манере одеваться, говорить, держаться отчужденно, а иногда даже спесиво. А ведь ничего особенного эти мальчики из себя не представляли: дети мелких торговцев, чиновников, учителей. Избранные учились в Шато, в заведении монахов-францисканцев. Но некоторые из моих соучеников тоже что-то из себя корчили и смотрели на меня свысока. Вессон, сын бакалейщика, державшего магазин на главной улице, носил галстук, на который чуть ли не свисала презрительно оттопыренная нижняя губа, и если уж ему приходилось говорить со мной, то он изъяснялся коротко, сухо и глядя в сторону. Базолье, сын нотариуса, разыгрывал из себя аристократа, а посему весьма заботился об изысканной бледности своего лица. Этот и вовсе держался так, словно я не существую, казалось, он вот-вот пройдет «сквозь меня». Так и чудились на заднем плане гостиные эпохи Луи-Филиппа, где сидели грозные матушки с тугими шиньонами и поджатыми губами, занятые вышиванием или подсчитыванием денег. К счастью, не все ученики были из этого теста.
Я подружился с Терэ, долговязым худым подростком, страстно влюбленным в Шарля Трене. После занятий мы с ним прогуливались по берегу канала, я вел свой велосипед, он насвистывал «Море» или «Как радостно». Я провожал его до угла улицы, где он жил, мы еще немного болтали, но вот зажигались фонари, я вскакивал на велосипед и, счастливый, катил через все предместье домой.
Однажды он имел неосторожность пригласить меня в четверг к себе. Приглашение домой — в этом было для меня что-то новое и праздничное, ведь у нас в поселке мы встречались на улице или в поле. Отец Терэ был торговцем недвижимостью, имел репутацию ловкого, умелого дельца, ему принадлежал большой дом на берегу Луэна.
И вот я подхожу к дому, звоню у входа — один вид этой двери из прочного дуба, с коваными украшениями и витражным окном наверху наводит на меня робость. В наших домах ни у кого нет таких дверей, нет медных дощечек, привинченных к стене. Мне открывает женщина с застывшим лицом, она меряет меня взглядом с головы до ног, точно цыганенка.
— Что нужно? — спрашивает она.
Я вежливо и робко шепчу:
— Здравствуйте, мадам. Я друг Жака. Он пригласил меня к себе.
Она все так же недоверчиво смотрит на меня.
— Ты тоже учишься в коллеже?
— Да, мадам.
— Жак меня не предупредил. Как тебя зовут?
У меня сжимает горло, я называю свое имя.
— А-а!
Сколько же всего прозвучало в этом «А-а!»: легкое презрение, снисходительность, недоверие и капелька враждебности. Это восклицание до сих пор звучит у меня в ушах, я и теперь помню, как стоял тогда на улице рядом со своим велосипедом, прислоненным к стене, не зная, что говорить и куда девать руки. Солнце било в стекла, от реки шел запах нагретой воды и листвы. Я стоял и спрашивал себя, что я делаю в этом чужом квартале, и мне так хотелось бы оказаться далеко отсюда, на лугу или на моем островке, только я не знал, как теперь уйти.
Наконец в коридоре появился Терэ, с минутку пошептался с матерью и крикнул мне:
— Ну входи же!
Поскольку я еще колебался, его мать неохотно вымолвила:
— Ну так входите.
Но я хорошо понимал: она приглашает, потому что иначе неудобно. В комнате, очевидно служившей кабинетом, сидел толстяк с багровым лицом и бычьим лбом, едва заметно кивнув мне в ответ на мое приветствие, он проворчал:
— Жак, а ты уроки кончил?
— Почти кончил.
— Почти! Смотри не задерживайся.
Когда Терэ спросил меня, куда нам лучше пойти, в его комнату или в сад, я без колебаний выбрал сад. Тут, разумеется, огородом и не пахло: только газоны и кусты роз. В глубине сада у реки был устроен маленький причал и стояла лодка, в которую мы уселись, опустив руки в воду. Немного погодя он сходил в дом и принес фотографии Шарля Трене и книги, мы болтали о том о сем, но мне было не по себе и разговаривать не хотелось. Сквозь ветви деревьев я видел дом с террасой и колоннадой, лицо матери Терэ стояло у меня перед глазами, мне казалось, что она следит за нами сквозь жалюзи. И когда он предложил мне пойти в дом послушать пластинки, я сказал, что уже поздно и мне пора возвращаться.
Я катил домой по улицам Шалетта, мимо особнячков с их огородами, с их оградами, и мысленно перебирал все происшедшее; я испытывал грусть, унижение и еще смутное чувство вины. В конце концов, зачем я пошел к этим людям, ведь они принадлежали к другой среде и — я должен был об этом догадаться раньше — ревниво оберегали свой клан от чужаков. У нас дома часто говорили, что жить надо среди своих, разве не прав был Лафонтен в своей басне о глиняном и медном кувшинах? Я достиг возраста смятения чувств, но еще не достиг возраста мятежа.
Больше я не бывал у Терэ. Мы встречались с ним на полдороге к его дому, на лугу. Он выскальзывал через сад и шел берегом реки, по пути перелезая через изгороди, а я подходил с другой стороны, от портомойни. Тогда-то я и посвятил его в тайну моего островка, показал ему плот и старицу, по которой мы шлепали с ним вдвоем, как несколько лет назад я бегал там с деревенскими мальчишками. Теперь все они были отданы в учение на завод, и я все реже встречал их. У нас с Терэ было не особенно много общих тем для разговора, не сказывалось ли и в этом расстояние, разделявшее нас? Это ведь я случайно попал в коллеж и вот теперь играл с сыном богатого буржуа. Если бы мать Терэ увидела его, растрепанного, босиком шлепающего по тине, увлеченного охотой на уклеек, она, уж конечно, сказала бы, что совершенно права, запрещая ему дружить с кем попало, что он якшается со всяким сбродом. К вечеру он причесывался, приводил одежду в порядок и спрашивал меня: «Ну как я? Все нормально?» Потом мы расходились, он налево, я направо: каждый возвращался на свою территорию.
Да, особый страх и робость внушали мне матери: к примеру, мать Лавардена, надменная бесцветная вдова, лелеющая своего единственного сына в просторной квартире с хрустальными люстрами и бархатными портьерами с помпонами; и даже, несколькими годами позже, мать моего друга Карона. Она медленно угасала от неизвестной мне болезни, иногда я видел, как она скользила, точно призрак, по коридору, и ее редкие слова, обращенные ко мне, были исполнены благопристойности и благочестия. О этот маленький городок, где царили тишина и дожди, — он был отгорожен от мира сетью своих каналов, как каждая семья стенами своей столовой.
Иногда кто-нибудь из школьных товарищей бесхитростно признавался:
— Знаешь, а меня вчера родители про тебя спрашивали.
Мне нетрудно было представить себе этот разговор: «А где он живет? А чем занимается его отец? А-а-а!» И дальше — осторожный вопрос: «А в церковь они ходят? Нет?» Ну конечно, так они и думали: что за мерзость! И за всем этим они чуяли анархизм, коммунизм, закат их мира. Поскольку я был хорошим, а часто даже лучшим учеником в классе, они поневоле вынуждены были испытывать ко мне даже некоторое уважение, хотя им это претило, и я думаю, оно сопровождалось тайным ощущением несправедливости подобного факта: «Ну что вы хотите, раз уж им позволяют учиться в коллежах!» Я уверен, что, будь их воля, они не колеблясь послали бы меня на завод: иди, голубчик, по стопам отца, как издавна заведено! «Если так будет продолжаться, никто больше не пожелает быть рабочим! И вы думаете, они благодарны нам? Да ничуть, какой благодарности можно ждать от этих атеистов и коммунистов!»
К счастью, некоторые мальчики были не так глупы, как их матери. Они любили меня, и этого им было достаточно, чтобы водить со мной дружбу. Карон рассказывал мне, что его семья справлялась обо мне у кюре из Шалетта, — сам он достаточно скептически относился к религии и находил это забавным. Раздобыть сведения было поручено его сестре, она-то и сделала открытие, что мы «погибшая семья». Я думаю, эти слова поразили ее так же сильно, как ненависть или сожаление священника, потому что с тех пор она всегда смотрела на меня со смешанным чувством страха и грусти. В то время ей был двадцать один год, а может, двадцать два, а мне — пятнадцать. Довольно некрасивая, бледная, близорукая девушка, она преподавала латынь в религиозном учебном заведении своего квартала; чтобы попасть в свой класс, ей нужно было только перейти через улицу. Она редко выходила из дому, а если такое случалось, боязливо жалась к стенам, все кругом, казалось, пугало ее. Когда я приходил к Карону, чаще всего открывала мне дверь она. Я никогда не слышал ее шагов — она была худенькая и носила тапочки на войлочной подошве, — просто внезапно открывалась дверь, и я видел ее растерянно моргающие от света глаза.
— Здравствуйте, мадемуазель!
— Здравствуйте.
Дальше этого наши разговоры не шли. При виде меня она на миг застывала на месте, потом все так же неслышно, молча удалялась, в своей серой юбке и наглухо застегнутой под подбородком и на рукавах блузке. У нее был такой испуганный, робкий вид, что я иногда спрашивал себя, уж не влюблена ли она в меня; мне приятно было думать об этом, все-таки ей больше двадцати, хотя, в общем-то, она мне совсем не нравилась.