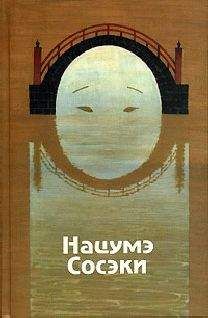Жан Жубер - Красные сабо
И — наивный идеалист — он стремился увидеть эту другую Германию в глазах какого-нибудь солдата, зашедшего к нему купить пару башмаков; запинаясь, он обращал к нему те немногие немецкие слова, какие знал: «Krieg… schlecht, Friede… gut, Arbeiter… Bruder»[9], пытаясь завязать разговор.
— Это точно как в четырнадцатом году, — говорил он. — У них ведь тоже есть и рабочие, и крестьяне. Нас просто натравили друг на друга, но, в сущности, мы же братья. И нужно, чтобы мы сумели договориться…
Я приходил в коллеж. Молчаливая привратница звонила в колокольчик у двери. Я бегом пересекал двор, одолевал темные, грязные коридоры этого бывшего монастыря, давно грозившего развалиться, но все еще державшегося благодаря могучим своим стенам и умело положенным заплатам из балок и досок. Я догонял товарищей на лестнице, где пахло кожей, мокрой шерстяной одеждой и где они толпились, зажав под мышкой портфель и полено для школьной печки.
— Я его нашел вчера в лесу. А ты-то где подобрал свою корягу?
— Ты только молчи — стянул в сарае у аптекаря. Ни одна живая душа не видела. У этого гада там дров невпроворот! Разве это справедливо? Вот я его и облегчил на одну полешку.
— Ну, папаша Муш будет доволен! Можешь рассчитывать на хорошую отметку!
— А я и рассчитываю!
— Сначала дрова! — коротко командовал нам учитель немецкого Ашиль Муш, когда мы входили в класс.
Мы чередой проходили мимо печки, складывая свои приношения в ящик для дров.
— Прекрасно, прекрасно! — хвалил он по мере того, как росла гора поленьев. — Ну а вы что же?
— Я забыл, мсье!
— Ах вы, юный убийца, вы, верно, желаете нам смерти? Не вздумайте прийти с пустыми руками завтра! Ну-с, а куда вы свое полено прячете?
— Это для французского…
— Давайте его сюда!
Мы смирно, навытяжку, стояли возле парт, ожидая, пока этот маньяк хлопнет в ладоши, позволяя нам наконец сесть.
И начинался обычный утренний ритуал. Муш водружал на нос пенсне и спускался с кафедры танцующим шагом, удивительно легким для такой огромной туши. Прижав локти к бокам, он направлялся к печке и, вытянув руку, осторожненько открывал дверцу маленькой железной кочергой. Мы все молча наблюдали за ним. Если в тот день ветер дул с севера, печка выплевывала клубы дыма, которые взвивались к потолку, где оседали копотью, а иногда и красноватые языки пламени, и до чего же нам хотелось, чтобы оно хоть разочек опалило Мушу брови! Но этот хитрюга держался на расстоянии: он дожидался конца извержения, потом наклонялся к печке, держа спину все так же прямо, и смотрел на огонь с преувеличенным вниманием. В течение нескольких мгновений лицо его было совершенно неподвижным, он не то дремал, не то грезил. Затем осторожно брал кончиками пальцев несколько небольших поленьев, ловко забрасывал их в топку, прикрывал дверцу и, круто повернувшись на месте, оказывался лицом к лицу с нами. Нахмурив брови, он тыкал в нас поочередно пальцем и рявкал:
— Sprechen?
— Sprach, gesprochen.
— Sehen?
— Sah, gesehen[10].
А для меня, как мне казалось, он всегда приберегал исключение, какую-нибудь ловушку в виде неправильного или модального вспомогательного глагола:
— Nennen… brennen… können…[11]
Он был неутомим. Каждый раз я тщательно готовился к сражению, но он в конечном счете всегда загонял меня в угол.
Он невзлюбил меня с первого дня и за все семь лет так до конца и не смягчился. В начале учебного года он спросил у нас, совсем еще малышей, изумленных его громадным ростом и ледяным взором: «Почему вы выбрали для изучения немецкий язык?» Сперва все молчали, потом забормотали: «Н-не знаю, мсье…», или: «Да просто так…», или: «Мне старший брат посоветовал…» Я же ответил: «Чтобы разговаривать с немцами», высказывание довольно банальное и вполне разумное, но в данном историческом контексте прозвучавшее для него бесстыдным вызовом. Его лицо передернулось, он молча постоял передо мной несколько секунд, потом круто повернулся и, крикнув: «Откройте тетради!», положил конец своему опросу.
Я ответил так без всякого умысла, скорее всего, подумав при этом о дяде, о пролетарской солидарности, о той, другой Германии, которую надо было уберечь от гибели. Мне следовало бы объяснить ему это, оправдаться, но я был слишком робок, да и вряд ли бы учитель Муш мог понять меня. Скорее всего, объяснения только усугубили бы его неприязнь ко мне. Истовый французский патриот, так же как за Рейном он, возможно, был бы истовым прусским патриотом, со своим бритым затылком, безбородыми щеками, любовью к дисциплине и привычкой чуть что орать во всю глотку, он с самого начала оккупации избрал для себя тактику молчаливого презрения. Я даже подозреваю, что именно из желания отомстить немцам за наше поражение и за оккупацию Франции он упорно преподавал немецкий как мертвый язык, ведя свой урок по-французски, замыкаясь в рамках грамматических упражнений и переводов, чтобы, как мне кажется, отрешиться от чересчур живого, навязчивого грохота сапог и воинственных маршей за окном. В самую хорошую погоду, стоило ему заслышать вдали, в предместьях, их мерный шаг, он кидался наглухо закрывать окна.
— Тихо! Занимаемся дальше! — приказывал он.
И, отгородившись от современных варваров, мы погружались в легенду о Нибелунгах.
Сказать по правде, в сороковом году мы еще находились на стадии «der Tisch, die Tür, das Fenster»[12], но именно в этом классе, сидя возле печки, чье мурлыканье вторило нашему чтению, я зачарованно погрузился в немецкую поэзию. Поистине таинственны и неисповедимы пути литературы, коль скоро такая личность, как Ашиль Муш, начисто лишенный поэтической жилки, измученный маниями и нервным тиком, стал первым моим проводником в ее волшебном лесу. Впрочем, не думаю, чтобы он сознательно исполнял эту роль и понимал значение поэтических грез, в которые сам же и посвящал меня. Он просто выполнял свою работу, не более того; он машинально следовал давно привычному ритуалу: поленья для печки, «встать, учитель идет», огонь, полыхнувший из дверцы, глаголы сильного спряжения, перевод, но встречались в учебнике тексты, как бы проходившие мимо его сознания, так иногда, говорят, благодать являет себя через посредство самого, казалось бы, недостойного. Этот учебник я отыскал в шкафу: грубая, желтая, какая-то лохматая бумага военных лет, готические буквы, карандашные пометки на полях. Я перелистываю его, а перед глазами возникает картина дремучего леса: там Зигфрид кует свой меч, он убивает дракона и завладевает сокровищем, освобождает спящую Валькирию и наконец погибает от копья Хагена. Я словно вижу, как он, пронзенный копьем, падает наземь возле источника. Мне кажется, ни один образ французской литературы, ни в «Песни о Роланде», ни в «Легенде веков», не занимал мое воображение так прочно и неизменно, как эти картины, возникающие в лесном полумраке под сенью могучих дерев, среди гигантских корней и стоячих вод.
Много позже, когда я проезжал через великие немецкие леса, они показались мне странно знакомыми, как будто я вновь очутился в одном из тех реально существующих мест, какие давно уже посещал в своих грезах и где в вечных сумерках листвы становилось возможным любое волшебство. И сильнее даже, чем в лесу родного Монтаржи, где по-прежнему бродил призрак по-волчьи злобного пса-мстителя, я ощутил здесь, в этих немецких лесах, все могущество этих уз, которые привязывают нас к некоторым местам до такой степени, что они всецело завладевают нами, подчиняют себе и мало-помалу в силу некой чудесной метаморфозы заставляют слиться воедино с этим пейзажем. Этот зов, влекущий и головокружительный, слышался мне в строках «Лесного царя», «Лорелеи», «Рыбака», и особенно явственно я чувствовал его в гравюрах Дюрера, украшавших учебник, они до сих пор волнуют и трогают меня как самим сюжетом — четыре апокалипсических всадника, рыцарь, смерть и сатана, святой Евстахий и речное чудовище, — так и тщательно прорисованным пейзажем, в который они вписаны, холмами, долинами и деревнями. Очарованный, я проникал в этот мир, где стерты границы между днем и ночью, реальностью и чудом, разумом и грезой, и, без сомнения, именно там обретал я то зыбкое, загадочное видение жизни, наносившее столь непоправимый ущерб классическому французскому воспитанию, неким символом которого была пунктуально-придирчивая система Ашиля Муша. И тем не менее именно Муш, неведомо для самого себя, пробивал в нем эту брешь.
Несколько лет назад я случайно узнал о его смерти. Он ехал по дороге в Невер на своем стареньком велосипеде, как вдруг допустил невероятную для такого сверхаккуратного человека оплошность. Решив свернуть в сторону, он забыл подать знак рукой. Налетевшая сзади машина задавила его насмерть.
В противоположность классной комнате Муша, которая скорее напоминала подвал, класс Роне, напротив, забрался на самую верхотуру. Нужно было одолеть сложную путаницу коридоров и лестниц, но зато там, наверху, мы были отрезаны от всего мира. Может быть, ему специально и выделили такой класс, чтобы избавиться от шума, ибо уроки его иногда проходили весьма бурно, а эта удаленность позволяла директору, не любившему скандалов, закрывать на все глаза. Впрочем, ничего слишком серьезного и не происходило, никаких стычек и криков, просто в классе стоял мерный гул, поскольку каждый занимался чем хотел. Прилежные ученики, вроде меня, любившие литературу, усаживались вокруг кафедры, придвигая парты как можно ближе к ней; другие в глубине класса, отделенные от нас как бы «ничейной землей», развлекались самыми разнообразными способами: играли в карты, болтали, дремали, что-то мастерили. Из окон виднелись верхушки платанов и вороны, с карканьем кружившие над крышами. В классе пахло плесенью, мелом, дымом, а в дождливые дни еще и мокрой шерстью, ибо всегда находились оригиналы, которые, разувшись, сушили носки у печки.