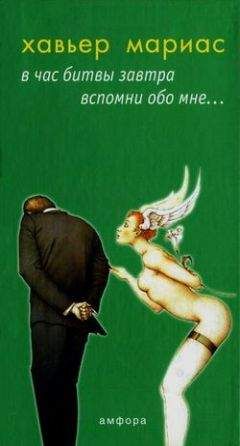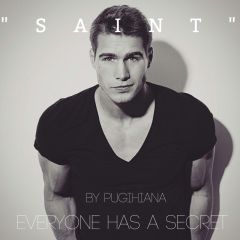Хавьер Мариас - Дела твои, любовь
Он молчал, и я могла задать ему любой вопрос, попросить разъяснить то, чего я не понимала, то, о чем он случайно проговорился. Или это была вовсе не случайность? Может быть, он нарочно сказал то, что сказал, и теперь хотел проверить, обратила ли я на эти слова внимание?
— Ты упомянул о просьбе Девернэ и о том, что он, возможно, о чем-то догадывался. Что это за просьба? И о чем он должен был догадаться? Я не понимаю. — И, сказав это, я подумала: "Что, черт возьми, я делаю? Почему позволяю себе спокойно обсуждать подобные вещи? Зачем спрашиваю о деталях убийства? И почему мы вообще об этом говорим? Это не тема для разговора, об этом можно было бы говорить по прошествии многих лет, как в истории Анны де Бейль, убитой Атосом в те времена, когда он еще не был Атосом. Но Хавьер все еще Хавьер, у него не было времени превратиться в кого-то другого".
Он снова осторожно, почти ласково, сжал мои плечи. Я по-прежнему стояла к нему спиной — сейчас я этого не боялась, сейчас мне не нужно было видеть его лицо, он не казался мне чужим, его прикосновение меня не пугало. Меня вдруг охватило странное чувство: я вдруг почувствовала себя так, словно мы перенеслись в другой день — в один из тех дней, когда я еще не подозревала о существовании Руиберриса, когда не знала того, что знаю теперь, когда мне нечего было опасаться, когда в моей жизни было счастье — пусть временное, пусть не навсегда, — когда я была влюблена и готова ко всему, когда я ждала, что меня вот-вот бросят ради Луисы, стоит ей полюбить его или, по крайней мере, позволить ему каждый день засыпать и просыпаться рядом с ней, в ее постели. Мне почему-то показалось, что это должно произойти очень скоро. Я давно ее не видела — даже издалека, и кто знает, как развивались их отношения и насколько ближе к ней стал с тех пор Диас-Варела? Возможно, он стал неотъемлемой частью ее новой жизни — жизни вдовы с маленькими детьми, с которыми подчас бывает очень трудно, особенно когда не хочется ничего делать, а хочется только забиться в уголок и плакать. Я тоже пыталась сделать это — стать неотъемлемой частью его одинокой холостяцкой жизни. Только мои попытки были слишком робкими: я не верила в успех, я сдалась с самого начала.
В тот, другой, день руки Диаса-Варелы могли бы соскользнуть с моих плеч мне на грудь, и я не только не противилась бы, но даже мысленно просила бы его: "Расстегни пару пуговиц, просунь руки под блузку или под жакет", — я умоляла бы: "Ну сделай же это наконец, чего ты ждешь?" И мне вдруг отчаянно захотелось вот так же молча попросить его об этом (желание — вещь импульсивная и иррациональная, оно зачастую заставляет нас не видеть очевидного, закрывать глаза на факты и забывать о том, каков на самом деле тот человек, к которому нас так тянет). Но, если бы я его и попросила, он к моей просьбе не снизошел бы: он отчетливее, чем я, сознавал, что тот день давно прошел, а сейчас настал совсем другой — день, когда он решил рассказать об устроенном им заговоре, о совершенном им преступлении, а потом проститься со мной навсегда (мы оба знали, что после этого разговора мы больше не сможем встречаться). Его руки не скользнули вниз. Он убрал их с моих плеч, словно его вдруг упрекнули в фамильярности или в злоупотреблении доверием — не я, я не упрекнула его ни словом, ни жестом, — вернулся к своему креслу и сел. Он сидел и смотрел на меня, и взгляд его был, как всегда, задумчив и туманен (он вообще никогда и ни на что не смотрел пристально), только сейчас в нем была еще и безысходность — та самая безысходность, которую я уже слышала в его голосе. Он словно снова спрашивал: "Почему ты не можешь меня понять?" И опять в его вопросе не было отчаяния, а было лишь сожаление.
— Все, что я тебе рассказал, — правда, — начал он. — Но не вся правда. Ты не знаешь главного. Впрочем, этого не знает никто, даже Руиберрису это известно лишь в общих чертах. К счастью, не в его привычках задавать лишние вопросы: он выслушивает, соглашается сделать то, о чем его просят, выполняет данное ему поручение и получает обещанную плату. Жизнь научила его многому: превратила в человека, готового почти на что угодно, если за это хорошо заплатят. Особенно если платить будет старый друг, который его не выдаст и не продаст, не пожертвует им ради своих интересов. И еще она научила его не проявлять излишнего любопытства. Ты знаешь, что мы сделали, и можешь не сомневаться, что все было именно так. Мы разработали план — рискованный план, вероятность того, что он сработает, была не слишком велика, но я уже говорил, что не хотел прибегать к услугам наемных убийц. Ты сопоставила факты и сделала выводы — что ж, тебя нельзя за это упрекнуть. Я тебя понимаю: ты знала, что произошло, но не знала, почему. Не стану отрицать и того, что я люблю Луису и хочу быть с нею рядом — быть всегда у нее под рукой в надежде дождаться дня, когда она забудет Мигеля и заметит меня, потому что я всегда буду возле нее и я не дам ей возможности обратить внимание на кого-нибудь другого, у нее не будет времени даже подумать об этом. Я почти уверен, что рано или поздно так и случится, надеюсь, что мне не придется ждать слишком долго. Горе утихнет — это происходит со всеми: я тебе уже говорил, что люди предпочитают, чтобы мертвые (даже те, кого очень любили при жизни), если они возвращаются и начинают угрожать их счастью или благополучию, продолжали оставаться мертвыми. И худшее, что мертвые могут сделать, — это сопротивляться, цепляться за живых, вмешиваться в их жизнь, препятствовать их движению вперед. Я уж не говорю о тех, что стремятся занять свое прежнее место, подобно полковнику Шаберу, едва не сломавшему жизнь своей жены, для которой его внезапное появление через много лет было страшным ударом, намного страшнее, чем его смерть в давно забытом сражении.
— Она нанесла ему куда более жестокий удар, — возразила я, — своим отказом признать его и попытками любой ценой похоронить его снова, и на этот раз уже не по ошибке. Он много пережил — такая уж ему выпала судьба, — и не его вина, что он не умер и что не забыл, кто он. Помнишь его слова — ты мне их читал: "О, если бы болезнь унесла с собой память о прежней моей жизни, я был бы счастлив!"
Но Диас-Варела не собирался спорить о Бальзаке, он хотел довести до конца свою историю. "Это книга, — сказал он мне, когда мы беседовали о полковнике Шабере, — и то, что в ней происходит, не имеет для нас никакого значения: мы забываем об этом, едва дочитав последнюю страницу".
Возможно, он полагал, что с реальными событиями, с теми, что происходят в нашей жизни, дело обстоит по-другому? Наверное, это справедливо в отношении людей, с которыми эти события происходят, но для других — едва ли: любое событие превращается в рассказ об этом событии, реальные истории начинают существовать в одном пространстве с вымышленными и все их ждет в конце концов одна и та же судьба. Все можно рассказать, и для тех, кто будет слушать, правда будет звучать так же, как вымысел. Так что он продолжил, не обратив на мои слова никакого внимания:
— Луиса оправится от горя, не сомневайся. Она уже понемногу приходит в себя. Я замечаю изменения каждый день, и так будет продолжаться дальше: если этот процесс начался, его уже не остановить. Она прощается с Мигелем, это второе, и окончательное, ее прощание, гораздо более тяжелое, потому что в первый раз он уходил из ее жизни, а сейчас уходит из ее сердца, и ей кажется, что она предает его (и она его действительно предает). Конечно, возможны еще временные ухудшения — все зависит от того, как пойдет дальше ее жизнь, — но потом она все равно забудет мужа. Мертвым дают силу живые, и если они перестают давать ее… Луиса освободится от Мигеля, и освобождение будет полным, хотя сейчас в это трудно поверить. Но он знал, что все будет именно так. Больше того, он хотел облегчить этот болезненный процесс, и это было одной из причин, по которым он обратился ко мне с той просьбой. Всего лишь одной из причин, потому что была и гораздо более важная.
— О какой просьбе ты опять говоришь? Что это за просьба? — Я едва сдерживалась, мне слишком хотелось получить ответ на свой вопрос.
— Потерпи немного, я все тебе расскажу. Слушай внимательно: речь пойдет о причине. За несколько месяцев до смерти Мигель начал чувствовать некоторое недомогание — общую усталость, которую даже нельзя было счесть поводом для обращения к врачу: он не был мнительным, и здоровье у него всегда было отменное. Через некоторое время появился другой незначительный симптом: один глаз у него стал хуже видеть, но он и тут не поспешил обратиться к офтальмологу — решил, что это скоро пройдет. А когда все же обратился (потому что зрение все не улучшалось), врач провел полное обследование и выявил довольно неприятную вещь: внутриглазную меланому. Офтальмолог направил его к терапевту, который обследовал его с головы до пят: ему сделали компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию всех органов, провели все возможные анализы. Выводы оказались еще страшнее: метастазы по всему организму, или, как он процитировал мне на медицинском жаргоне "развитая метастатическая меланома", хотя Мигель в то время чувствовал себя вполне неплохо.